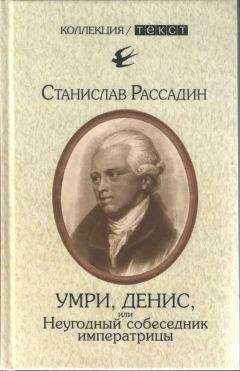Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
«Захолодало в мире…» Куды метнул! — как говорят у Гоголя: это ведь (кто!) Пушкин сожалел о кончине (кого!) Наполеона и Байрона: «Мир опустел…»
Шутовская надгробная речь — дело нравственно рискованное, и, дабы она могла намеренно быть или нечаянно стать шутовской, нужен какой-то казус.
Как в этом, другом случае:
— Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли! Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который… этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж… Незаменимая потеря! Кто заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипович был единственный. Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен… Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу! Да, на наших глазах Прокофий Осипович раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия: вам известно, что до конца дней своих он был холост! А кто нам заменит его как товарища? Как сейчас вижу бритое умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипыч! Покойся, честный, благородный труженик!
В чеховском рассказе «Оратор» нелепость, абсурдность этого надгробного панегирика с первых слов не слишком скрывается от нас автором, не пожалевшим для записного витии бесхитростно-водевильной фамилии Запойкин, — что же до окружающих, за ними оставляется право умиляться и сопереживать: «Речь понравилась всем, выжала несколько слез, но…»
Запойкинское ораторское искусство смешно само по себе, да, но смешно как бы походя, невзначай, без особого авторского нажима на комизм выражений вроде «улья государственного благоустройства», — кстати, нет ли здесь зависимой переклички с сухово-кобылинским «шумом свершающегося преобразования» или хотя бы подобным? Сюжет нацелен совсем на другое, на комизм непредвиденного недоразумения, — вернемся к тому «но», на котором я оборвал фразу о всеобщем впечатлении, произведенном речью Запойкина:
«…Но многое показалось в ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофием Осиповичем, в то время когда того звали Кириллом Ивановичем. Во-вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, а стало быть, не мог называться холостым; в-третьих, у него была густая рыжая борода, отродясь он не брился, а потому непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым».
Наконец:
«— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. — Живого человека похоронил.
— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч. — Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с».
В «Смерти Тарелкина» — никакой загадки, никакого притаившегося до поры недоразумения. Оно, приоткрывающееся нам по мере чтения чеховского рассказа и звучания запойкинской речи, здесь заявлено сразу — да и не как недоразумение, а как рассчитанная авантюра. Сухово-Кобылину незачем приберегать юмористический эффект для нанесения читателю и зрителю внезапно разящего удара, и автоакафист Тарелкина с первых слов кричаще несоразмерен, шутовски незаслужен, издевательски (с точки зрения автора) гиперболичен.
Беспардонность, с какой о ком угодно можно сказать что угодно, явлена персонажем с великолепной наглостью. Торжественные, высокие, а в данном-то случае вдобавок политически и нравственно значимые слова (прогресс… преобразование… гуманность…) идут по цене ниже некуда. Ниже всякой цены. Попросту не стоят ни гроша.
Мысль, которая не может не задевать — рождая боль или вызывая сарказм, у кого как, — художника, имеющего дело со словом. Со словом, которое и есть его дело.
Ведь и афоризмы того же Пруткова, даже не самые напыщенные и бессмысленные из них, а те, что имитируют серьезность и мудрость: «Смотри в корень!» или «Никто не обнимет необъятного!» — это сигналы бедствия, происходящего со словом, которое своей «надутостью», как говаривал Гоголь, способно нас обмануть и скрыть, что смысл обесценен, что восторжествовала «ложная мудрость», как правило, неотрывная от общественной лжи. И между прочим, то, насколько эта поддельная мудрость, видимость смысла, эрзацы ума охотнее воспринимаются нашим сознанием, подтверждает судьба именно прутковских «плодов раздумья»: они, созданные с тем, дабы издеваться над мнимым глубокомыслием, хоть и те из них, что я привел выше, употребляются в нашей обыденной и печатной речи не насмешливо, но всерьез — как шедевры лаконизма Паскаля или Ларошфуко.
Сознавать, какое слово откуда пришло и зачем явилось на свет, — стало быть, что оно в себе содержит, — не вопрос литературной эрудиции и хорошей памяти, а вопрос осознания истинных ценностей.
«Рукописи не горят». «Человек создан для счастья, как птица для полета». Вот, почти наудачу, два подобия истины, которые мы повторяем, особенно первое, с удовольствием от собственной причастности к таинству духовной жизни. Но — именно что подобия.
Рукописи не горят? Увы, как еще полыхают, — сгорели и вторая часть «Мертвых душ», и пушкинские автобиографические записки, и многое иное, далеко не всегда брошенное в огонь родственной рукой автора. Сгорают — и безвозвратно, пепла и того не оставляя, и это необходимо сознавать, не утешаясь поверхностным оптимизмом, не сглаживая трагедий, не лишаясь болевой памяти, не заглушая в себе тревоги, что подобное может быть — и бывает — на свете.
Не сгорает, не гибнет бессмертное Слово, которое, в победоносное отличие от судьбы того или иного писателя, той или иной рукописи, будет пронесено через века вопреки всем инквизициям, всем сомнениям и страхам художников, — что ж до эффектного полуафоризма-полупарадокса, то, не касаясь сейчас того потайного смысла, который он имеет в романе «Мастер и Маргарита», на одно все-таки обращу внимание. Его произнес не рассказчик, не Булгаков. Даже не его мастер. Произнес князь тьмы и гений зла, Воланд, обладающий силой, которая вне земных измерений, вне человеческих смертных возможностей — не только потому, что они смертные, но и потому, что человеческие. Вне их прежде всего в нравственном смысле. Не обязательно «анти», — но непременно вне.
Извлеченное из философского и эмоционального контекста, изречение стало полупошлостью, очень годящейся — и жадно расхватываемой — в качестве заглавий бодрых статей. А парадокс о человеке и птице, произносимый всуе, и вовсе уже откровенная пошлость, сверхбанальность вроде козьмапрутковского: «Если хочешь быть счастливым, будь им», — истинным же парадоксом он становится, воротившись в контекст, став в нем жутковатой гримасой судьбы.
Не все и помнят, что это из замечательного рассказа Короленко, так и озаглавленного: «Парадокс», и исходит эта красивая фраза от урода, безрукого карлика, которого родной брат выставляет напоказ, зарабатывая на людском любопытстве к всяческим аномалиям. Тот пишет ее — ногой!
«…Он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся вокруг.
— Прочитай, — сказал, улыбаясь, отец.
Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:
— «Человек создан для счастья, как птица для полета…»
…Последним кинул монету в шляпу мой отец.
— Хорошо сказано, — засмеялся он при этом, — только, кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.
— Счастливая мысль, — насмешливо подхватил феномен. — Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе парадокс в устах феномена… Ха-ха! Это правда… Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета…»
Лживый панегирик поддельного Силы Копылова, произнесенный ненастоящему покойнику над гробом, в котором его нет, — один из самых язвительных, самых яростных парадоксов на тему, если вспомнить уже тургеневские строки, о силе и беззащитности слова. И еще парадоксальнее — то, что комедия, в которой прорвался столь горько-насмешливый скепсис по отношению к слову, сама стоит или, вернее, зыблется именно на нем. На игре им, на рискованных каламбурах, на двойственности значений, на метафоре…