Виталий Шенталинский - Преступление без наказания: Документальные повести
Максима Грека судили дважды. Обвинений было много: и что, мол, не так и не то переводит, и что старые книги неправильно исправляет (а он возвращал их к первоисточнику, снимал искажения), и что речи недозволенные ведет, и что в непримиримой борьбе в церкви между «стяжателями» и «нестяжателями» встал на сторону «нестяжателей», естественно, теснимых и гонимых. Его слова — «ведаю все везде, что деется» — были поставлены в вину как «волхование еллинское и еретическое». И вот что еще донесли на него окружающие его монахи: колдует, пишет водкой на дланях тайные знаки и, когда Великий князь на него гневается, выставляет эти длани навстречу, и князь тут же гнев свой смиряет и начинает смеяться.
Ученый-энциклопедист, философ и выдающийся писатель, владевший многими языками, принесший в средневековую Русь идеи античности и европейского Возрождения, был лишен возможности «иметь мудроствование». Приговор гласил: «Да не беседует ни с кем, ни с церковными, ни с простыми, как и писанием не глаголет. В молчании сидеть и каяться в своем безумии и еретичестве». Рассказывают, что одно из самых ярких своих сочинений, гимн истине — «Канон Пераклиту» — Максим Грек написал углем на стене своей кельи-камеры, где его мучили стужей, угаром и голодом.
И все же, несмотря на нечеловеческую участь, этот вестник другого мира оставил после себя целую библиотеку творений — больше 350 сочинений разных жанров, которые, увы, до сих пор еще не до конца изучены и прочитаны. В одном из них — «Слове печальном, пространно излагающем, с жалостью, нестроения и бесчиния царей и властей последнего жития» — Максим Грек дал потрясающий образ многострадальной Руси — неутешно плачущей вдовы, лишенной опоры — надежного и крепкого мужа — и сидящей при дороге в окружении диких зверей. Звери эти — славолюбцы и властолюбцы, сребролюбцы и лихоимцы, извечные персонажи жизни, а пустынный путь — последний окаянный век, лишенный всякого благочестия.
Удалившись вглубь времен еще на столетие, вспомним и о загадочной судьбе блестящего политика, министра иностранных дел при дворе Великого князя московского Ивана III, про несчастного Федора Курицына, который был сожжен заживо в клети вместе с единомышленниками. В чем провинился? Книги осмелился писать. Слово супротивное произнес. Душа, мол, у каждого человека по своей природе свободна. И ограда у нее, чтоб свобода не стала произволом, только одна — вера.
Минуем те времена, когда под гнетом двойного ига — и собственных, безжалостных князей с их опричниками, и чужеземных захватчиков — татаро-монголов, кажется, все на Руси замолкло и замерло, как в пустыне. Но что там дальше, до монгольского нашествия, уж не мерцает ли свет? Век XIII. Чей голос доносится к нам оттуда?
А вот: «Когда возлежишь на мягкой постели под собольими одеялами, вспомни меня, под дерюгой лежащего и холодом умирающего, и струями дождя, как стрелами в сердце, пронзаемого… Господине мой! Не лишай же хлеба мудрого нищего, не возноси до небес глупого богатого».
«Слово» или «Моление» Даниила Заточника. Родной брат по духу Потапа Игольнишникова взывает об истине и справедливости и напоминает суетному, скоропостижному веку своему о вечных ценностях. И кажется не раз — это наш пермский правдоискатель говорит устами далекого предка: «Ведь я ни за море не ездил, ни у философов не учился, но был как пчела, во многих книгах собирая сладость словесную».
Даниила Заточника называют первым русским интеллигентом, он впервые в нашей литературе подал глас в защиту отдельной человеческой личности, независимо от положения в обществе, суверенной по праву рождения. По легенде, Даниил, княжеский дружинник, был невинно заточен в тюрьму на Белоозере. Там-то он и написал свое «Слово» и, запечатав в сосуд, кинул в озеро. Сосуд проглотила рыба, рыбу выловили и подали на княжеский пир. Так попало в руки князя это послание.
Ну чем не Статиръ — образ потаенного Слова, которое чудесным образом то ныряет в волны времени, то всплывает опять, не просто для житейской пользы или досужей забавы, но ради спасения человека.
Вот мы и спустились по древу Русского Слова до самых его корней, в летописное время. XI век, Киевская Русь. Трудами игумена Никона составлен «Первый Киево-Печерский свод» летописей, которые положили начало нашей словесности. А что же автор их, Никон? Бежал от гнева князя Изяслава в далекую Тмутаракань…
Тартуский книжник XX века Юрий Лотман говорил, что в Древней Руси авторитетность текста удостоверялась мученической биографией его создателя. Проще выразился вечно актуальный сатирик Салтыков-Щедрин: «Русская литература возникла по недосмотру начальства».
Как солнце в полярной мгле, пробивался свет разума, просвещение, крестным был путь Слова на Руси. И кажется, долгие века мрак невежества освещался не столько светом мысли, сколько пламенем сжигаемых рукописей.
А не так ли оно было и на всей Земле, во все времена? — спросите вы. Неужели Русь — исключение?
Разве не побывал трижды за тюремной решеткой современник Ивана Федорова и Максима Грека — Мигэль Сервантес, писавший своего «Дон Кихота» в севильской тюрьме? И автор «Божественной Комедии» Данте не был дважды приговорен к смерти и не бежал из родной Флоренции? И любимый учитель отца Потапа из Византии, святой Иоанн Златоуст, тоже был сослан властями за свои идеалы и неустрашимые обличения, через год из страха перед народом возвращен, а потом снова отправлен в ссылку.
А в классическом Риме — иначе? Изгнан и убит красноречивый Цицерон; десять лет пробыл в изгнании, где и умер, певец любви Овидий. И эпохой раньше, в Древней Греции — не то же? Подвергнут изгнанию трагический гений, автор «Прикованного Прометея» — Эсхил; величайший мудрец Сократ приговорен к принятию яда.
Даже и сам легендарный Орфей, очаровавший пением богов и людей и укрощавший стихии природы, был растерзан менадами за недопочитание Диониса… Миф, скажете вы, сказка! Да, миф, который мудрее голой правды, потому что в нем больше, чем правда, — истина!
Превозлюбленный читатель, Божественных словес рачитель, как сказал бы отец Потап Игольнишников, возьми в десятиструнные длани свои Священное Писание, Библию, величайшую книгу, перед которой, благоговея, молясь, преклоняются целые народы и на которой, как на незыблемой скале, покоится храм христианской цивилизации. Плачевна судьба ветхозаветных пророков. За что был распят сам Иисус, как не за свое Слово, хотя и устное — святое предание, а не святое писание.
Апостол Лука, по сказаниям, умер мученической смертью; автор другого Евангелия, Матфей, сожжен в Эфиопии. А любимый ученик Христа, Иоанн, после истязаний у Латинских ворот Рима и попыток убить его ядом и кипящим маслом, сослан на остров Патмос за Слово Божие, где и возник его нетленный «Апокалипсис» — видения о конечных судьбах мира.
В начале было Слово, И Слово было у Бога, И Слово было Бог…
В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков.
Так начинается Евангелие от Иоанна.
Нам не дано знать, откуда взялся этот свет и кто первый зажег его во вселенной, но чередой мерцающих свечей исходит Слово-свет из глубины времен.
А дальше Иоанн Богослов произносит слова, может быть, самые прекрасные из сказанных человеком:
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Эти слова дышат надеждой для нас, как дышали и для отца Потапа Игольнишникова, когда он возжигал свою свечу в той мерцающей в веках цепочке Слова-света.
Хотя познал он на себе в полной мере и другое, тоже предреченное Иоанном:
— Кто же ты?
Что ты скажешь о себе самом?
— Я глас вопиющего в пустыне.
Трудился же я так полторы годины. И о том единому Богу известно, как люто оскорблял меня враг через досады человеческие. Те, которых я прежде любил душевно, и они меня, и премного от меня по моей силе облагодетельствованы были, — и те на меня вооружились завистью и порицанием, и всяким злословием. И так бедную и непостоянную мою душу возмущали и нетвердый разум мой колебали… Зело невежества исполнены жители страны сея, как я и прежде сказал. Многие меня укоряли, и порицали, и сопротивлялись мне, и посмеивались, и всякими обидными именами называли; всем я был в претыкание[7]. Мало было у меня истинных любителей, но едва не все ненавистью дышали!
А впрочем, пусть, кто хочет, меня порицает, пусть укоряет, пусть смеется! Если меня по праву поносят — грехи мои очищают, если же втуне — награды венец мне сплетают. На то я родился и позван был… Если кто, завистью дьявола наущен, и огню предаст мою книгу, то верую, если угодно Богу, труд мой незабвен у него будет, но Он его в воню[8] небесного благоухания примет, а меня со второнадесятым[9] делателем причастия сподобит. А я с губителем труда моего буду судиться в день страшного испытания, пред нелицемерным Судиею, у него же нет пристрастия.
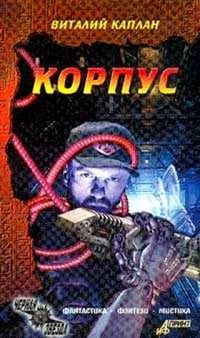

![Виталий Шенталинский - Охота в ревзаповеднике [избранные страницы и сцены советской литературы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
