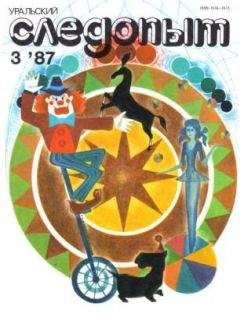Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923
Зато, начав вести дневник, он в первой же записи зафиксировал свои убеждения: «Я не партийный. Даже не знаю, правый или левый. Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, но сильный и могучий народ. Я верю в Бога. Верю в призвание России. Верю в святыни русские, в святых и угодников. Мне нравится величие русских царей и мощь России. Я ненавижу рутину, бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы. Не люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством лицам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев. Какого политустройства хочу? Не знаю… Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии».
И дальше: «Меня гнетут неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту слабых, угнетенных».
Наконец последнее, что он счел необходимым написать о себе на первой странице дневника: «Противны месть, жестокость».
2В середине 1990-х издатель и мемуарист Семен Самуилович Виленский, сидевший в лагере на Колыме вместе со старшим сыном Пепеляева, дал мне его адрес. Всеволод Анатольевич жил тогда в Черкесске. Мы с ним начали переписываться, и в одном из писем он прислал мне ветхий тетрадный листок с карандашным рисунком отца: поскотина из жердей за деревенской околицей, елки, месяц в ночном небе, глазастый зайчик с умильно воздетой передней лапкой. Вверху по-детски коряво выведено: «От папы. Вова (домашнее имя Всеволода, старшего сына. – Л. Ю.). 22 марта 1921 года».
На обороте – четверостишие, написанное взрослой рукой, но не рукой Пепеляева:
Папа наш с открытым воротом,
С утомленной головой,
Ходит он с термометром,
Думу думает все он.
Дату поставил Севочка, рисовал его отец (во время болезни, раз ходил с термометром), а стишок, должно быть, сама или вместе с сыном сочинила Нина Ивановна. Тогдашнее настроение мужа передано ею не без иронии, но со знанием дела: смешное слово «дума» применительно к Пепеляеву употребляла не она одна. Люди, знавшие его по Харбину, вспоминали «грузного, небрежно одетого человека в потасканных шароварах защитного цвета, в толстовке, в серой, надетой по-военному, немного набок, шляпе». По улицам он ходил «медленной развалистой походкой, и на лице у него словно бы застыла тяжелая, мучительная, неразрешимая дума».
«Душой я отошел от Белого движения, – писал Пепеляев об этом периоде своей жизни, – порвал с ним всякую связь, мучительно искал ответов на вопросы: в чем спасение Родины? Как примирить вражду русских? Что сделать, чтобы улеглись волны революционного моря?»
Популярного генерала стремились привлечь на свою сторону и белые, и красные. Друживший с ним колчаковский журналист Николай Устрялов объяснял это просто: «Все нуждались хоть в одном честном имени».
Из Благовещенска приезжал старый товарищ, полковник Буров, ныне командир краснопартизанского отряда, от имени правительства ДВР предлагал командную должность в Народно-Революционной армии. Пепеляев готов был сражаться с японцами и «японской болванкой» Семеновым, но Япония эвакуировала войска из Читы и Хабаровска, а воевать против бывших соратников не позволяли, по его словам, «моральные соображения».
Генерал Вержбицкий зазывал в Приморье, обещал крупный пост в Белоповстанческой армии. Пепеляев ответил: «Пока народ не возьмет знамя борьбы в свои руки, действия отдельных армий успеха иметь не будут… Тяжело сидеть в бездействии, но звать людей на дело, в успех которого не верю, я не могу».
В то время, когда он рисовал сыну зайчика, Западную Сибирь охватили крестьянские восстания. Недавно сибирские мужики боролись против Колчака, а теперь не признали и большевиков, из чего Пепеляев делал вывод, что ни белые, ни красные не способны постичь народный идеал жизнеустройства, поэтому его долг – «влиться в народ, понять его нужды, его чаяния и служить народу». Как он однажды выразился, им овладел «дух упований» – надежда, что из этих стихийных мятежей родится новый порядок русской жизни. «Настроения мои, – вспоминал Пепеляев, – были такими: я хочу мира, счастья Родине, хочу, чтобы люди стали братьями, но в Сибири борьба не прекращается – восстания в Ишиме, в Петропавловске. Приезжие говорили, что в Сибири голод, жестокость карательных отрядов, крестьяне разбегаются из деревень в леса. Власть только грабит и не может устроить нормальной жизни… Создавалась картина полной гибели Родины и народа».
И переходил к самому себе: «Считал неверным пользоваться личным благополучием, когда гибнет родная Сибирь, а может быть, и Россия».
Устрялов подтверждает: «Он все упорнее твердил, что если начнется народное движение против советской власти, не сочтет себя вправе стоять в стороне. “Друзья” же старались заставить его всякую ничтожную крестьянскую вспышку в Сибири принимать за начало широкого движения».
Под «друзьями» (кавычки выдают отношение к ним Устрялова) понимались областники из «Сибирского комитета», руководимого старым народником Анатолием Сазоновым. Пепеляев сблизился с ними в Харбине. Самыми заметными членами этого кружка были журналист Валериан Моравский, эсер и партизан (белый, красный, опять белый) Николай Калашников и японист Мстислав Головачев, в силу профессии ставший главой МИДа в полностью зависимом от японцев Приамурском правительстве братьев Меркуловых.
В 1917 году Сазонов и Моравский заседали в Сибирской думе, где Якутию представлял Куликовский, и теперь, явившись во Владивосток просить о военной помощи повстанцам, он обратился за содействием к старым знакомым. Тщеславный несмотря на возраст Сазонов решил, что судьба посылает ему шанс осуществить лелеемый им проект создания «буферной», вроде ДВР, но не просоветской, а прояпонской Сибирской республики с Якутией как временной опорой ее государственности и самим собой в роли не то премьер-министра, не то идеократического диктатора. Через Головачева он составил Куликовскому протекцию у Меркуловых и организовал его встречу с Пепеляевым, которого соответствующим образом настроил.
Встреча состоялась во Владивостоке. Куликовский сумел найти ключ к сердцу «мужицкого генерала», рассказав ему о страданиях якутов и напирая на то обстоятельство, что ВЯОНУ – орган демократический, представляющий большинство населения.
«Власть эта – народная, опирающаяся на весь народ, и вот народ зовет всех сочувствующих народу помочь ему спастись от уничтожения. Это меня увлекло», – рассказывал Пепеляев, какое впечатление на него произвел рассказ Куликовского. Он не замечал, что от слова «народ» здесь рябит в глазах.
Сазонов, хотя ему перевалило за семьдесят, объявил, что лично возглавит Якутскую экспедицию. В конце концов, он снизошел к просьбам соратников, милостиво согласившись поберечь себя для будущих свершений и остаться дома, но приставил к Пепеляеву двух своих комиссаров: теоретик кооперации Афанасий Соболев, о котором Устрялов отзывался как о «необыкновенно бестолковом и самодовольном доморощенном экономисте», стал начальником информационно-политического отдела Сибирской дружины, а «трудовик» Герасим Грачев – его единственным сотрудником.
15 июля 1922 года Пепеляеву исполнился тридцать один год. Незадолго до того он вернулся в Харбин после встречи с Куликовским, и в день рождения на квартире у него собрались близкие товарищи по Сибирской армии. Среди них – его бывший адъютант, поручик Малышев. Он лишь недавно перебрался в Харбин из Хайлара, где преподавал в русской школе при КВЖД.
В 1918 году Малышев добровольцем вступил в Средне-Сибирский корпус, участвовал в боях за Пермь. После взятия города в пермской газете «Освобождение России» появилось данное им объявление: «Буду весьма признателен тому, кто сможет одолжить мне на некоторое время “Критику чистого разума” Канта, которую по прочтении обязательно возвращу». И адрес, куда послать книгу: «Действующая армия, 3-й Барнаульский стрелковый полк, поручику Малышеву».
При таких интересах сын врача из Барнаула, юрист с дипломом Санкт-Петербургского университета и поэт Леонид Малышев за все время Гражданской войны не поднялся в чинах выше поручика, зато стал любимым адъютантом Пепеляева и, следовательно, желанным для него собеседником. Похоже, вторая из его ролей не вытекала из первой, а ей предшествовала. Они были ровесники, Пепеляев тоже писал стихи, и это, в числе прочего, могло их сблизить.
Через год, на допросе, Малышев показал: однажды вечером, за день или за два до своих именин, к нему на квартиру зашел Пепеляев и сказал, что решил принять предложение Куликовского помочь якутам, которые находятся «в кошмарном положении». Он не скрыл от друга «тяжелые моменты» предстоящей экспедиции и свои по этому поводу «переживания», но Малышев сразу, без малейших колебаний, вызвался отправиться с ним.