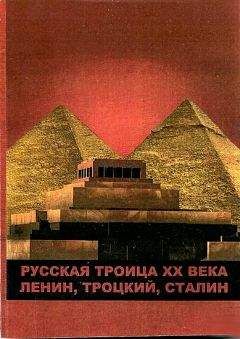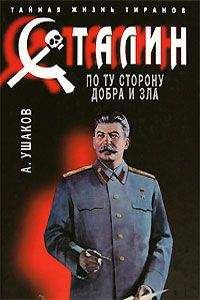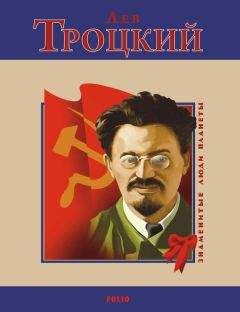Александр Ушаков - Гитлер. Неотвратимость судьбы
Такова была уверенность вождя в своей непогрешимости…
За несколько дней до начала войны Наркомат обороны в который раз предупредил Сталина о возможности нападения Германии. «Зря поднимаете панику!» — последовал короткий ответ, в котором сквозило плохо скрытое раздражение.
В тот же день на прием к Сталину попросились Жуков и Тимошенко. Тимошенко сказал:
— С той стороны к пограничникам через Буг перебрался немецкий фельдфебель… Он утверждает, что немецкие дивизии выходят на исходные позиции и что война начнется утром 22 июня!
Сталин поморщился. Ну вот, еще один! Сколько их, таких вот фельдфебелей и других «друзей Советского Союза» уже докладывали о дне начала войны.
— А не послали ли вашего фельдфебеля к нам немецкие генералы? — раздраженно задал он тот самый вопрос, который ему то и дело приходилось задавать в последнее время.
Но обстановка на западных границах была настолько тревожной, что Тимошенко, который хорошо знал нелюбовь Сталина к подобным вопросам, не стал его успокаивать.
— Нет, товарищ Сталин, — покачал он головой. — Мы считаем, что на этот раз перебежчик говорить правду!
Сталин внимательно взглянул в глаза маршалу. Как ни хотел он уверить себя в том, что война будет еще нескоро, однако тон, каким говорил с ним Тимошенко, заставил его задуматься.
Тимошенко и Жуков хранили почтительное молчание.
— Ладно, — махнул рукой Сталин.
Он вызвал Поскребышева и приказал ему немедленно собрать членов Политбюро.
Через четверть часа все были в сборе, и Сталин поведал собравшимся о докладе наркома обороны.
— И что мы будем теперь делать? — вкрадчиво спросил он, обводя членов Политбюро долгим взглядом.
Ему никто не ответил. Да и что отвечать? Всем была известна «любовь» Сталина к мерам против Германии. Тогда слово снова взял Тимошенко.
— Я предлагаю дать директиву о приведении всех войск пограничных округов в полную боевую готовность!
— Читайте! — приказал Сталин, даже не сомневаясь в том, что такая директива уже подготовлена.
Недовольные таким решением Сталина Тимошенко и Жуков вышли в соседнюю комнату, где быстро переработали директиву так, как того требовал вождь. В ней Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО было приказано не поддаваться ни на какие провокации, быть в полной боевой готовности и «встретить возможный удар немцев и их союзников». Никаких других мероприятий без особого на то распоряжения было приказано не проводить.
Попыхивая трубкой, Сталин внимательно прочитал переработанный документ и удовлетворенно кивнул головой:
— Ну вот, это другое дело…
Тимошенко и Жуков подписали директиву и передали Ватутину, который повез ее в Генеральный штаб. Члены Политбюро разошлись по своим кремлевским квартирам, а Сталин по обыкновению уехал на дачу.
О чем думал он, глядя сквозь стекла окон на спавшую последним мирным сном Москву? О том, что уже очень скоро огромный город узнает страшную весть о начале войны, которая принесет Советскому Союзу невиданные бедствия? Или о том, насколько он оказался предусмотрительным и сделал все возможное для того, чтобы оттянуть войну?
Сталин уснул в четвертом часу. А в это самое время командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский сообщил в Генеральный штаб о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов, а начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил Тимошенко о том, что немецкая авиация бомбит белорусские города. Затем наступила очередь начальника штаба Киевского округа генерала Пуркаева и командующего Прибалтийским округом генерала Кузнецова, которые доложили о том, что немецкая армия перешла в наступление чуть ли не по всем западным границам.
То, во что так не хотел верить Сталин, случилось, и началась самая страшная из всех известных на земле войн — Вторая мировая. Для Советского Союза она станет отечественной — уже второй в ее истории.
Вечером 21 июня Гитлер вместе с Геббельсом проехал по пока еще спокойному Берлину. Министр пропаганды записал в дневнике: «По мере приближения решающего момента фюрер, кажется, избавляется от своего страха. Вот так всегда. Видно, что он расслабился, и его утомление совсем прошло». В половине третьего ночи Гитлер отправился в свои апартаменты.
— Не пройдет и трех месяцев, — заявил он своему окружению, — и мы увидим такой крах России, какого мир не видел за всю свою историю…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Около четырех часов утра 22 июня Сталина разбудил начальник охраны генерал Власик. Звонил Жуков, который сообщил, что немецкая авиация бомбит наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Ошарашенный услышанным Сталин не отвечал, и Жуков слышал в трубке лишь его тяжелое дыхание.
— Вы меня поняли? — на всякий случай спросил генерал.
Когда Сталин прибыл в Кремль, члены Политбюро были уже в сборе. Ждали Молотова, который беседовал с немецким послом. Сталин молча курил. В кабинете стояла напряженная тишина, и только слышно было, как тикают огромные часы в углу. А в эту самую минуту Молотов читал только что полученную из Берлина телеграмму.
— Ввиду создавшейся для германской восточной границы ситуации вследствие массированной концентрации и подготовки вооруженных сил Красной Армии, — словно в пустоту ронял он тяжелые слова, — германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры.
— Это объявление войны? — спросил Молотов.
— Да… — ответил посол.
— Мы не этого заслужили…
— Германия объявила нам войну! — с порога крикнул он.
По словам очевидцев, при этом известии Сталин «упал в свое кресло… и последовала долгая, тяжелая пауза». Потрясенные услышанным члены Политбюро молчали, не решаясь нарушить тягостную тишину. Первым заговорил Жуков, который попросил разрешения отдать приказ войскам задержать продвижение противника в глубь советской территории.
— Не задержать, а уничтожить! — не удержался Тимошенко.
Сталин кивнул.
— Давайте директиву войскам!
Как это ни печально, но даже сейчас, когда на западных границах грохотали пушки, и лилась кровь, он все еще пребывал в уверенности, что воевать Красная Армия будет только на чужой территории и малой кровью. Потому и отдал приказ обрушиться на врага всеми силами и уничтожить его, а удары авиацией наносить на глубине германской территории до 150 километров, разбомбить Кенигсберг и Мемель, а от налетов на Финляндию и Румынию воздержаться.
Увы, иллюзии и довоенные небылицы остались в прошлом, и с этой минуты был начат отсчет нового времени и новых воззрений на войну, на собственную армию и ее командиров. С первых же часов войны стало ясно, что та самая армия, которая должна была воевать малой кровью на территории противника, в панике бежала. Те самые командиры, которые еще вчера клятвенно заверяли страну в своем профессионализме, сегодня растерялись и не знали, что делать. Конечно, они сражались, но это были бои не организованной ее командованием армии, а отчаянное сопротивление брошенных на произвол судьбы солдат и офицеров.
22 июня в 12 часов дня по радио выступил Молотов. Сталин говорить отказался: сказать ему было нечего. Он столько раз заверял свой народ, что войны не будет, что Советская армия — самая сильная в мире и никто не осмелится безнаказанно напасть на Советский Союз. Но теперь, когда немецкие танки утюжили советскую землю, ему пришлось бы заявить на весь мир о том, что он ошибался, что Советская армия совсем не самая сильная, а ее прославленные командиры не знают и не умеют очень многого.
Он привык к тому, что огромная страна верила в то, что он все знает и все умеет, а в эти часы ему ничего не известно ни о положении на фронтах, ни о силе немецкого прорыва, ни даже о том, где эти фронты проходят. Говорить же о том, что солдаты сдаются, что командиры не умеют командовать и что положение с каждой минутой становится все сложнее, он, привыкший говорить только о победах, не мог и не хотел. Трудно сказать, верил ли он сам в то, что говорил, но именно он продиктовал последние слова в выступлении Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».
— Что ж, — сказал Сталин после выступления Молотова, — это, наверное, правильно, что сегодня выступал ты. А мне сегодня нельзя выступать… Наши командующие, как видно, растерялись и не знают, что им делать… А мне, — после небольшой паузы добавил он, — придется еще много выступать…
По словам Берии, «великий полководец» полностью потерял в ту роковую минуту голову и присутствие духа и лишь повторял, что все «потеряно и он сдается».
«Сталин растерялся, — вторил ему Хрущев, — и на несколько дней отошел от руководства, категорически отказывался прийти на заседание Политбюро, Совнаркома, скрылся на даче в Кунцеве. Мы решили поехать к Сталину и вернуть его к деятельности с тем, чтобы использовать его имя и способности в организации обороны страны. Когда мы приехали, то я по лицу видел, что Сталин очень испугался. Наверное, он подумал, не приехали ли мы арестовывать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает по организации отпора немецкому нашествию. Мы стали убеждать, что страна наша огромная, что мы еще имеем возможность организовываться, мобилизовывать промышленность, имеем людей, — одним словом, сделать все, чтобы поднять и поставить на ноги народ в борьбе против Гитлера. Только тогда Сталин вроде опять немного пришел в себя».