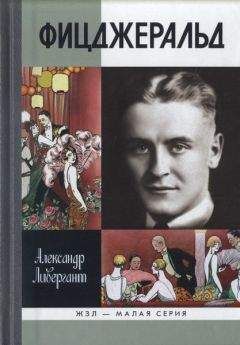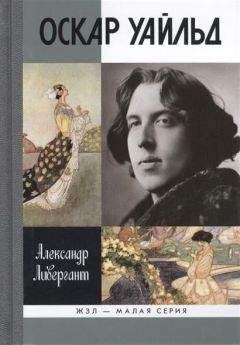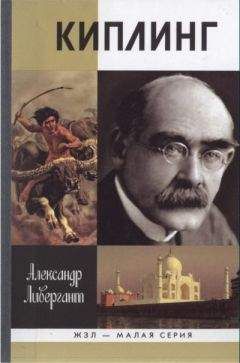Александр Ливергант - Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей
Уильям Хэзлитт {373}
О страхе смерти
«И сном окружена вся наша маленькая жизнь…» {374}
Быть может, лучшим средством от страха смерти является мысль о том, что у жизни есть не только конец, но и начало. Нас ведь не заботит, что было время, когда не было нас, — стоит ли отчаиваться, что настанет час, когда нас не будет? Я вовсе не жалею, что не жил сто лет назад, во времена королевы Анны, — стоит ли принимать столь близко к сердцу, что я не буду жить спустя сто лет, во времена невесть кого?
Когда Бикерстафф писал свои эссе, я не знал, о чем он пишет, да и гораздо позже, можно сказать, «на днях», в первые годы правления Георга III, когда Голдсмит, Джонсон, Берк встречались в «Глобусе», когда Гаррик был на вершине славы, когда Рейнолдс трудился не покладая рук над своими портретами, а Стерн каждый год выпускал по тому «Тристрама Шенди», — со мной никто не советовался, я понятия не имел о том, что происходит, дебаты в палате общин об Американской войне, стрельба на Банкерс-Хилл до меня не касались, — однако ж, я не видел в том ничего дурного, я не ел, не пил, не был весел — и, тем не менее, не жаловался; я не знал тогда, что собой представляет мир вокруг, — и ничуть от этого не страдал, да и миру было так же хорошо без меня, как и мне без него! К чему ж тогда сокрушаться, что придется с этим миром проститься, лелеять слабую надежду на то, что на том свете будет не хуже, чем было на этом? Мы же не радуемся, что некие ужасные события, от которых «стынет кровь», произошли до нашего появления на свет — к чему же в таком случае проклинать мысль о том, что в один прекрасный день мы переселимся в мир иной? Умереть — это всего лишь стать тем, кем мы были до рождения. — а между тем, размышляя об уходе из жизни, никто из нас не испытывает угрызений совести, или сожаления, или отвращения. Прошлые времена мы воспринимаем как своего рода досуг: нас ведь тогда никто не вызывал на сцену жизни, не вынуждал носить мантии или лохмотья, смеяться или плакать, нас не освистывали и не награждали аплодисментами; все это время мы пролежали perdus [164], в уюте и покое, вне опасности; тысячи и тысячи веков проспали мы, не испытывая никакого желания пробудиться, беззаботным сном, глубже и спокойнее младенческого, укрытые мягчайшим и легчайшим прахом. А потому худшее, что нас ждет, — это вновь погрузиться в тот же сон и после короткого, неверного, лихорадочного существования, после пустых надежд и досужих страхов забыть дурной сон жизни!.. Вам, вооруженным воинам, доблестным тамплиерам, что почивают под каменными плитами той старинной церкви в Тампле, где непроницаемую тишину наверху и мертвую тишину внизу не нарушает гром органа, — разве вам не спится? Или вам не терпится покинуть свой вечный приют и отправиться на Священную войну? Или вы сетуете, что раны более не терзают вас, что болезни остались позади, что вы сполна заплатили свой долг перед Природой, что до вашего слуха не доносится более нарастающий стук копыт вражеской конницы или стихающие рыдания вашей дамы; жалуетесь, что, покуда земной шар совершает свое непрестанное кружение, ни один звук не проникает в мраморную вашу гробницу, не нарушает ваш вечный покой?! И ты, о, ты, к кому обращается и будет обращаться мое сердце, покуда в нем останется хоть одно живое чувство; ты, которая любила тщетно, ты, чей первый вздох был последним, — разве не будешь и ты покоиться с миром (или же станешь обливаться горючими слезами на своем ложе из холодной глины), когда это печальное сердце перестанет грустить, и умрет та печаль, ради которой ты была призвана в этот мир?
Можно с очевидностью сказать, что желание жить в прошлом не идет ни в какое сравнение со страстным стремлением к посмертному существованию. Мы вполне удовлетворены тем, что наша жизнь началась тогда, когда началась; мы нисколько не жалеем, что не отправились в путешествие раньше срока; нам вполне довольно и тех испытаний, что выпали на нашу долю за прожитую жизнь. Мы не можем вслед за поэтом сказать:
Мы помним хорошо и войны Нина,
И старого Ассарха, и Инаха.
Да, в сущности, к этому и не стремимся; нам довольно того, что мы прочтем о них в книгах, мы не испытываем никакого желания переплыть безбрежный океан времени, отделяющий нас от них. То было самое начало мира, и мир тот был тогда для нас еще слишком незрел — жить и действовать в те времена нас вовсе не прельщает. Мы не считаем, что шесть тысяч лет, прошедших до нашего рождения, пропали даром; нас это нисколько не волнует. Мы не скорбим оттого, что опоздали родиться и не увидели грандиозное маскарадное шествие человеческой истории — и вместе с тем страшимся при мысли, что вынуждены будем выйти из зала, не досмотрев спектакль.
Объяснить столь разное отношение к прошлому и к будущему можно было бы следующим образом. Из различных источников нам известно, что происходило во времена королевы Анны и даже во времена ассирийских царей, тогда как установить, что произойдет в будущем, мы можем, лишь его дождавшись; чем меньше мы себе его представляем, тем больше разгорается наше любопытство. Объяснение это, впрочем, весьма сомнительно, ибо в этом случае мы испытывали бы постоянное желание совершить путешествие в Гренландию или на Луну, к чему мы совершенно равнодушны. Сходным образом, не стремимся мы и к тому, чтобы проникнуть в тайны будущего — разве что с целью продлить наше собственное существование. Жить спустя сто или тысячу лет мы хотим ничуть не больше, чем сто или тысячу лет назад; все дело, скорее, в том, что все мы хотели бы, чтобы настоящее мгновение длилось вечно. Более всего нас устроило бы, чтобы мы всегда оставались такими же, как сегодня, и чтобы мир оставался неизменным во все времена. Мы изо всех сил стараемся удержать то, что видим, и одна лишь мысль о том, что «увиденное» у нас отберут, ничего не оставив взамен, внушает нам панический страх. Муки расставания, разрыв некогда прочных связей, необходимость разомкнуть объятья и отказаться от давно вынашиваемой цели — «вот что удлиняет несчастьям нашим жизнь на столько лет» {375}, вызывает страх и отвращение.
О, сердце сильное!
Между тобой и миром
Согласье прочно столь,
Что разорвать его невыносимо!
Любовь к жизни тем самым — это не отвлеченное понятие, а привычка. Просто «быть» не составляет «естественную склонность человека»; мы тщимся быть не вообще, а в определенное время, в определенном месте и в определенных обстоятельствах. Мы предпочитаем быть сейчас, «на этом бреге времени», а не выбирать по своему усмотрению любой период будущего, не присваивать себе любые пятьдесят-шестьдесят лет вечности.
Наши привязанности не ограничиваются «существованием» или «благополучным существованием» — мы испытываем неудержимую тягу к нашему непосредственному существованию, тому, какое ведем. Скалолаз ни за что не оставит свою скалу, дикарь — свою хижину; вот и мы не желаем расставаться со своим образом жизни, со всеми его преимуществами и недостатками, отказываемся заменить его любым другим. Ни один человек, думаю, не захочет променять свою жизнь на жизнь любого другого человека, какой бы успешной она ни была. Нам лучше не быть вообще, чем не быть самими собой. Есть, впрочем, довольно своеобразные люди, которые хотели бы прожить двести пятьдесят лет, чтобы увидеть, какой могучей империей станет Америка, или убедиться, просуществует ли столь долго британская государственность. Лично я этих людей не понимаю. Мне бы, скажу откровенно, хотелось дожить до падения Бурбонов. Для меня это вопрос жизни и смерти, а потому чем скорее это произойдет, тем лучше!
Молодой человек не задумывается о смерти. Он еще может поверить, что умрут другие, или согласиться с отвлеченным понятием о том, что «все люди смертны» [165], но никогда не соотнесет он сие расхожее представление с самим собой. Юность, бурная деятельность, жизнелюбие несовместимы со старостью и смертью, да и в расцвете лет мы, не более чем в беззаботном детстве, представляем себе, как такое возможно.
Чтоб то, что было теплым и живым,
Вдруг превратилось в ком живой земли… {376}
Точно так же не укладывается у нас в голове, каким образом цветущее здоровье и сила «предстанут слабостью и сединой». Даже если в минуты праздных размышлений мы и задумываемся о конце жизни, смерть кажется нам чем-то на удивление далеким, между нею и нами протянулась дистанция огромного размера, и как же не соответствует ее тяжкая, размеренная поступь с нынешним нашим веселым и беззаботным существованием! Мы всматриваемся в даль, за линию горизонта, и нам мнится, будто расстояние от нас до него бесконечно, и конец жизни наступит невесть когда, — а между тем туман, о чем мы даже не подозреваем, уже клубится у наших ног, и густые тени старости уже на нас ложатся. Крайние точки нашей жизни сливаются в одну, между ними не оказалось того протяженного расстояния, на какое мы по своей наивности рассчитывали, — и вместо богатых, печальных, торжественных оттенков преклонного возраста, «увядших листьев прожитого», сгущающихся теней осеннего вечера мы ощущаем лишь сырой, стылый туман, который с исчезновением духа юности обволакивает все вокруг. В эти годы у нас не возникает побуждения смотреть вперед, и, что того хуже, — обратить свой взор вспять на все то, что с возрастом сделалось столь избитым и привычным. Радости жизни приелись, «исчезли в пучине времени», удары же судьбы были столь частыми и болезненными, что никакого желания испытывать их на себе вновь у нас не возникает. Мы не хотим ни бередить старые раны, ни вернуть себе, подобно птице Феникс, молодость, ни прожить свою жизнь дважды. Одной более чем достаточно. Срубленное дерево не вырастет. Захлопните книгу и покончите счеты с жизнью раз и навсегда!