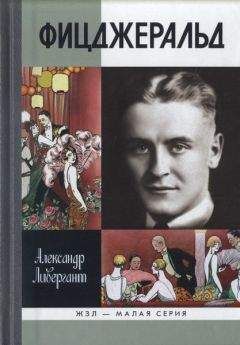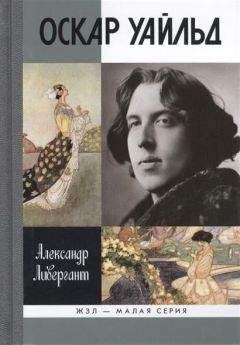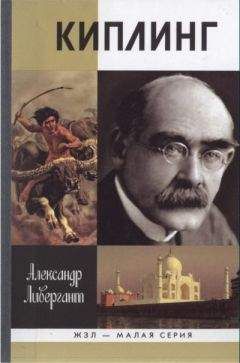Александр Ливергант - Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей
Свет, который им светит, не ровный и постоянный, но переменчивый и мерцающий, то усиливающийся, то тускнеющий. Речь их такая же. Им ничего не стоит бросить случайное слово, кстати или некстати, а как его поймут, им все равно. Они не всегда способны говорить как должно под присягой, и их слова и писания следует понимать с некоторой скидкой. Они редко выжидают, пока суждения их созреют, но выносят свой товар на рынок полузеленым. Они обожают оповещать о своих еще непроверенных, едва намечающихся открытиях, вовсе не дожидаясь их полного завершения. Они отнюдь не систематики и если бы стремились к системе, заблуждались бы чаще. Как я сказал выше, в их уме мысль только зарождается. Мозг настоящего каледонца (если не ошибаюсь) создан совсем по-иному. Его Минерва появилась на свет в полном доспехе. Шотландец никогда не позволит вам видеть его мысли в развитии, если, конечно, они вообще развиваются, а не соединяются в единое целое сразу, как часовой механизм. Вы никогда не застигнете его ум в неприбранном виде. Шотландец никогда не ограничивается намеком или предположением, но в безупречном порядке и с исчерпывающей полнотой выкладывает вам весь запас своих мыслей. Он приносит все свое достояние в общество и не спеша его раскрывает. Богатство его всегда при нем. Он никогда не нагнется и не поднимет в вашем присутствии что-нибудь блестящее и с вами не поделится прежде, чем с несомненностью не узнает, какой оно пробы. Что бы он ни нашел, вы не вправе крякнуть: «половина моя!». Он, вообще говоря, не находит, а добывает. Вам никогда не уловить миг его первого восприятия. Его понимание неизменно в зените, вы никогда не видите его зари, его ранних проблесков. Ему неведомы колебания и неуверенность в себе. Предположения, догадки, страхи, полупрозрения, не вполне осознанные порывы, частичные просветления, смутные чувства, зачаточные теории не находят места в его мозгу или словаре. Сумерки сомнения никогда не падают на него. Если он в религии правоверен, то далек от всяких шатаний, если он неверующий — тоже. Пограничное пространство между отрицанием и утверждением начисто для него отсутствует. С ним вы не сможете брести где-то поблизости от пределов истины или блуждать в путанице правдоподобных доводов. Он никогда не сходит со стези. С ним вы не отклонитесь в сторону, ибо он сразу остановит вас. Его вкус устойчив и неизменен. Его мораль никогда не ослабевает. Он не согласен на уступки и не понимает половинчатых решений. Для него существует лишь правота и неправота. Его разговор — та же книга. Его утверждения обладают непреложностью клятвы. С ним надо говорить без обиняков. Он не потерпит ни одной метафоры, как в стране, ведущей войну, не потерпят ни одной подозрительной личности. «Здоровая книга? — воскликнул один из его соотечественников, когда я дерзнул дать такое определение труду Джона Бенкля {354}. — Я правильно уловил ваши слова? Я слышал, что здоровым называют человека или состояние его организма, но не понимаю, как этот эпитет можно применить к книге». В присутствии каледонца вам особенно следует остерегаться переносных выражений. Накиньте также колпачок гасителя на вашу иронию, если вы на свою беду владеете ее крупицами. Помните — вы говорите под присягой. У меня есть гравюра — с картины Леонардо да Винчи, на ней изображена прелестная женщина — и мне захотелось похвастать ею перед мистером***. После того как он тщательно осмотрел ее, я осмелился спросить, пришлась ли ему по вкусу моя красотка (этим шутливым прозвищем ее наградили мои друзья), и он с превеликой серьезностью принялся меня уверять, что «всегда питал немалое уважение к моему характеру и дарованиям (именно так ему было угодно сказать), но никогда не задумывался о степени личных моих притязаний». Меня это недоразумение потрясло, но его, по-видимому, не так уж сильно смутило. Лица шотландской национальности особенно привержены к утверждению истин, в которых никто не сомневается. И они не столько их утверждают, сколько провозглашают. Они, по-видимому, так любят истину (как если бы, наподобие добродетели, она имела ценность сама по себе), что всякая истина представляется им одинаково ценной независимо от того, ново или старо суждение, в котором она содержится, спорно или настолько бесспорно, что никоим образом не может стать предметом спора. Не так давно я оказался в обществе северных бриттов, где ожидался сын Бернса, и мне случилось (на свой южноанглийский лад) обронить необдуманные слова, что хорошо бы, если бы вместо сына пришел отец, и тут четверо из присутствующих принялись меня поучать, «что это невозможно, ибо тот умер». Неисполнимое желание оказалось, надо полагать, чем-то недоступным их пониманию. Это свойство их душевного склада — их любовь к истине — Свифт подметил с присущей ему язвительностью, но и с нетерпимостью, которая поневоле заставляет перенести этот отрывок в примечание. [162] Дотошность этих людей безусловно раздражает. Хотел бы я знать, нагоняют ли они скуку друг на друга! В ранней юности я страстно любил поэзию Бернса. Порою я тешил себя глупой надеждой, что восторгаясь ею, смогу снискать расположение его соотечественников. Но всякий раз я обнаруживал, что настоящего шотландца ваше восхищение его соплеменником сердит даже сильнее, чем рассердил бы презрительный отзыв о нем. Последний он приписал бы вашему «недостаточному знакомству со множеством используемых поэтом слов»; из тех же соображений он считает вас самонадеянным, если вы полагаете, будто можете и в самом деле им восхищаться. Томсона они, кажется, вовсе забыли {355}, Смоллетта, однако, они не забыли и не простили за то, как он изобразил Рори {356} и его сотоварища при первом их появлении в нашей столице. Скажите им, что Смоллетт великий гений, и они тотчас укажут вам на «Историю» Юма и примутся сравнивать ее с продолжением, написанным Смоллеттом. А что бы случилось, если бы историк продолжал «Хемфри Клинкера»? {357}
Теоретически у меня нет предубежденности против евреев. Они — частица упрямой древности, по сравнению с которой Стоунхендж еще не достиг совершеннолетия. Они восходят к временам до пирамид. Но я не хотел бы постоянно поддерживать тесное общение с кем-нибудь из них. Признаюсь, у меня не хватает решимости войти в их синагоги. Я не могу отделаться от старых предрассудков. У меня из головы не выходит рассказ о Хью из Линкольна {358}. Столетия оскорблений, презрения и ненависти с одной стороны и затаенной мстительности, притворства и такой же ненависти — с другой, между нашими и их прародителями не могут не волновать кровь их потомков. Я не могу поверить, что сейчас она уже может струиться спокойно и доброжелательно и что несколько возвышенных слов, вроде беспристрастия, свободомыслия, просвещенности девятнадцатого столетия, в силах заделать бреши, пробитые столь непримиримою рознью. Еврей во всем далек от меня. Он наименее неприятен на Бирже, поскольку дух торгашества сглаживает всяческие различия, подобно тому как во мраке все женщины — писаные красавицы. Я отваживаюсь признаться, что мне не нравится сближение между иудеями и христианами, которое стало столь модным. Во взаимной их ласковости есть, по-моему, что-то противоестественное и лицемерное. Я не люблю смотреть, как церковь и синагога лобызаются и расшаркиваются друг перед другом с нелепыми телодвижениями притворной вежливости. Если евреи обращены, почему они не переходят к нам окончательно? К чему держаться какого-то размежевания и тогда, когда смысл его утрачен? Если они могут сидеть с нами за одним столом, почему они отвращаются от нашей кухни? Я не понимаю этих обращений наполовину. Евреи, приемлющие христианство, христиане, приемлющие иудаизм, — такое в моей голове никак не укладывается. Мне подавай либо рыбу, либо мясо. Веротерпимый иудей — явление еще более поразительное, чем пьяница квакер. Дух синагоги по своей сути — дух отчуждения. Б. был бы более цельным {359}, когда бы не оставил веры своих праотцев. На его лице проступает великолепное презрение, которое по замыслу природы предназначается для христиан. Несмотря на его прозелитизм, дух еврейства в нем все еще очень силен. Он не в состоянии преодолеть в себе шибболет {360}. Как он рвется наружу, когда Б. поет: «Чада Израиля прошли через Красное море!». Слушатели для него в это мгновение те же египтяне, и он, торжествуя, попирает наши выи. Тут ошибиться нельзя. В лице Б. ясно ощущается ум, и его пение утверждает нас в этом мнении. Основа его вокального мастерства именно ум. Он поет с таким же пониманием, с каким Кембл ведет диалог {361}. Он спел бы и заповеди, придавая каждому из запретов подобающий ему одному характер. Его народу обычно не свойственны слишком чувствительные лица. С чего бы им быть? Но вы редко увидите у евреев выражение явной глупости. Нажива и погоня за нею обостряют черты человеческого лица. Я никогда не слышал, чтобы среди евреев уродился тупица. Иные восхищаются красотою еврейского женского типа. И я восхищаюсь им, но с содроганием. У Иаили были очень темные загадочные глаза. {362}