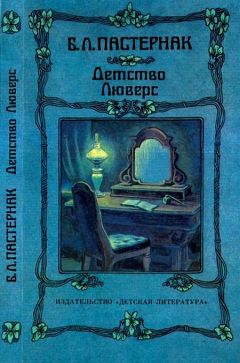Василий Ливанов - Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи (сборник)
Из-за частых повторений (кстати, для Пастернака несвойственных!) я запомнил этот рассказ дословно.
Рассказанное Борис Пастернак не комментировал, и продолжения эта странная история у него не имела. Слушатели воспринимали рассказ как новое свидетельство мрачноватого юмора и тщеславия Маяковского, смеялись.
Других рассказов о Маяковском я от Пастернака не слышал. В нашем доме появилась машинописная рукопись «Охранной грамоты», переданная Борисом Леонидовичем. Знакомая история вполне могла быть туда вписана, но между какими абзацами определить ей место?
Когда Пастернак был так знаменит, что затмил своей славой Маяковского?
Ясно, что разговор мог происходить до их разрыва, спровоцированного Пастернаком:
«Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников “Лефа” и непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его»[23].
Забегая вперед, скажу, что выбранный Пастернаком способ провоцировать разрыв резким, оскорбительным письмом коснется и моего отца. Но об этом позже.
В начале двадцатых бесшабашных годов на поэтических диспутах и состязаниях происходили какие-то диковатые и веселые «выборы в гении», «первые поэты» и проч. Симпатии поклонников поэзии чуть ли не ежедневно менялись, вчерашние кумиры свергались, и создавались новые, чтобы назавтра, в свою очередь, быть свергнутыми.
Скорее всего, ночной разговор между Пастернаком и Маяковским происходил после таких «выборов», где они вместе выступали перед публикой.
Сталинский режим эту веселую стихию прибрал к рукам, приспособил к своим интересам. Талант стал обозначаться как государственная должность, в которую могли назначить или из которой могли уволить.
С созданием Союза писателей утвердилась негласная табель о рангах, где место писателя определялось прежде всего его способностью жить в применении к режиму.
Но состязание в поэтическом первенстве по «гамбургскому счету», тем не менее, продолжалось. Упреки Пастернака в адрес Маяковского: «Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богаделен на искреннем вашем пути?»[24] – оказались несостоятельными.
В квартире Владимира Маяковского и Бриков в Сокольниках
Маяковский все же сумел выразить себя «во весь голос», а затем выиграл поэтическую дуэль одним выстрелом всерьез, поставив «точку пули в своем конце»[25]. И тем, вслед за Гумилевым и Есениным, продолжал знаменитый герценовский список русских поэтов.
Очевидно, с удесятеренной силой охватили Пастернака те чувства и мысли, о которых он поведал, описывая одну из своих ранних встреч с Маяковским:
«Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять: я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бы бросил литературу. Но этому мешал мой возраст».
(«Люди и положения»)В этом же душевном состоянии написаны стихи на смерть Маяковского.
Думаю, у Пастернака возникли мысли о самоубийстве. Он старался проанализировать случившееся и, проанализировав, примерить это на себя.
Не подошло!
Пастернак заметался. Он не желал быть признанным первым поэтом только потому, что Маяковского не стало. А к тому шло. Сначала поддавшись соблазну, он все-таки сумел осилить себя, стал осторожно выбирать поэтическую тропу, чтобы – не дай бог! – нигде не ступить в след Маяковскому.
Признание Сталиным Маяковского «лучшим и талантливейшим» облегчило Пастернаку непосильное внутреннее соперничество с мертвым поэтом, как бы сняло с него ответственность перед лицом Маяковского, изменило условия поэтического состязания, утвердило Пастернака в верном выборе своего поэтического пути. Маяковский, даже покончив с собой, не смог избежать государственного назначения в «лучшие и талантливейшие».
«Маяковского стали вводить как картошку при Екатерине. Это было его второй смертью. Он в ней неповинен».
Значит, его, пастернаковское, стремление быть лучшим и талантливейшим может, должно состояться без чьих бы то ни было объявлений и утверждений. И это непременное желание стало его тайной. И только этой тайной Пастернака я могу объяснить происхождение благодарственного письма Сталину за фразу о Маяковском.
Ведь не хотел же Пастернак в самом деле «примазаться» к сталинским определениям или выступить экспертом по утверждению сталинских оценок! Но почему-то никто другой, как Пастернак, не счел нужным поблагодарить Сталина…
С годами его тайна облеклась в форму романа. Именно в романе, в нескольких строках, которыми главный герой характеризует творчество Маяковского, заключается весь смысл состязания этих двух поэтов, как понимал его Пастернак, все то, чем может определяться победа в этом состязании:
«Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз и навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуло все это в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!».
(«Доктор Живаго»)Так, через оценку творчества Маяковского, определена сверхзадача собственного творчества, а значит, и смысл всей жизни.
Тайна эта, которую Борис Леонидович носил в себе долгие годы, мучила его несказанно. Он боялся, что задуманное вдруг не состоится по не зависящим от него причинам: возраст, здоровье и проч. Боялся, что вынужденная быть тайной жизнь переделкинского «отшельника» приведет к непониманию его творчества новым поколением, а то и просто к забвению. Переводы Шекспира давали ему хорошие средства к жизни, но повсеместно признанные удачи на этом поприще его тоже пугали – он вовсе не желал оставаться прежде всего переводчиком, пусть даже гениальным. Вместе с тем свою раннюю поэзию, современную Маяковскому, он демонстративно отвергал, а лучшие новые стихи ревниво оберегал от широкой огласки, приберегая их для романа.
Однажды на многолюдной встрече Нового 1948 года в Центральном Доме литераторов к столику, за которым сидел Борис Леонидович, подошел поэт Сергей Васильев. Как позже выяснилось, этот поэт хотел сказать Борису Леонидовичу, что хотя молодое послевоенное поколение не знает поэзии Пастернака, но для людей старшего поколения он навсегда остается и т. д. и т. п.
Но как только Васильев начал свое славословие и произнес слова о не знающем поэта Пастернака молодом поколении, Борис Леонидович выскочил из-за столика, набросился на Васильева и стал его самым серьезным образом душить. Возник переполох, Пастернака пришлось оттаскивать силой. Все это я знаю от самого Бориса Леонидовича, который на следующий день появился в нашем доме с взволнованным рассказом о своей принявшей такой неожиданный оборот встрече Нового года, и они с моим отцом обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы замять публичный скандал.
– Скажи, что тебе это было необходимо сделать: ты сейчас работаешь над переводом «Отелло», – подтрунивал отец.
Вообще Пастернак часто затевал разговоры на тему, хорошо ли быть знаменитым. Как-то во время такого разговора моя мама сказала:
– Боря, быть знаменитым – некрасиво…
Беседа эта происходила на даче у Пастернаков в Переделкино.
Из воспоминаний Евгении Ливановой:
«Все, кроме Бориса Леонидовича, пошли гулять, а он, извинившись, остался дома. Мы вернулись часа через два. Пастернак сказал, что вместо того, чтобы отдыхать, он написал мне в книгу. И прочел: “А теперь о себе, то, что ты сегодня говорила:
Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Как кутает туман окрестность,
Так что не различить ни зги,
Таинственная неизвестность
Пускай хранит твои шаги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать,
Чтоб в жизни ни единой долькой
Не отступиться от лица
И быть живым, живым и только,
Живым и только до конца”».
Это первый набросок знаменитых стихов о том, как не надо быть знаменитым. Пастернак их доработал. Эти строки – одно из «вымощенных стихами» благих намерений Пастернака.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.
Поэма «Высокая болезнь» помечена двумя датами: 1923, 1928. Пастернак возвращался к этим стихам на протяжении по крайней мере пяти лет и сформулировал в них свое жизненное кредо.
Но где, когда, кем «установился» такой взгляд?
«Установился взгляд» самим Пастернаком и для самого Пастернака. Это его личная нравственная установка, возведенная для себя в правило. Любое благое намерение, «вымощенное стихами», освобождало его от необходимости этому намерению следовать вне поэтического образа – в образе его жизни.