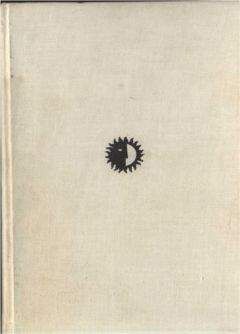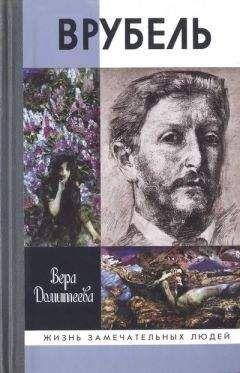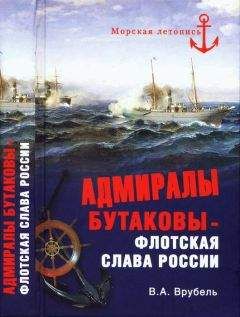Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
М.Г.: Я не адвокат дьявола и марксизм взял больше как метафору. Что сейчас влияет на Россию, находящуюся в броуновском состоянии? Мне кажется, что не идеи и не секты, а экономика. В плане идей Россия проходит сейчас ликбез, она только учится, в то время как экономика диктует ей движение в будущее, причем в будущее, не только собственно экономическое, но и духовное, философское.
А.Г.: У меня есть впечатление, что марксизм не потерпел поражения, равно как и не одержал победы, что он имел слабое отношение к реальной истории советского общества, где вне зависимости от идеологических деклараций и экономических платформ была сознательно и бессознательно сделана попытка создания органического строя жизни. Советская литература 30-х годов выразила это переживание почти попперовского «закрытого общества», которое объединяется коллективистскими связями, общей телесной жизнью, ощущением роевого характера бытия. Похоже, что существовала некая третья субстанция, залегавшая глубже базиса с надстройкой, из нее-то все и произрастало.
М.Э.: Это вопрос степени, дозировки, но нельзя оправдывать марксизм, отрицая его непосредственное участие в построении советского коммунизма. Все произошло очень близко к Марксовым прописям, в соответствии с его рецептами. Для того, чтобы в обществе будущего прекратилась торговля, писал он и его последователи, это должно быть общество бухгалтеров, где каждый ведет подсчет, то есть неизбежна чудовищная бюрократия. Даже в самых массовых сборниках-цитатниках, выходивших огромными тиражами, можно найти конкретные пророчества о том, каким суждено быть социалистическому миру.
Ирина Врубель-Голубкина: Я хотела бы чуть изменить направление нашей беседы. Когда я просматривала ваши книги, у меня возникло впечатление, что вы как бы собираете материал для некоего нового соц-арта, идущего на смену реальному, историческому, соц-арту, который работал с языком советских мифов и идеологем. Не то чтобы вы легитимизировали или очеловечивали новые советские мифы, скорее вы их расширяете и в то же время переводите в разряд экзотики. Заниматься этим можно было лет двадцать назад, а сегодня вы выступаете в роли наследника, готовящего, повторяю, почву для нового витка соц-арта, хотя соц-артовский метод работы с материалом уже мертв, исчерпан.
М.Э.: Мне трудно разорвать пуповину с тем временем, когда я писал эти книги; происходило это не двадцать, а десять лет назад. Навряд ли они являются материалом для соц-арта, уместнее было бы назвать их его полуфилософским, полумифологическим аналогом. Для меня очень важно было зафиксировать следующую стадию в соц-арте, когда, вволю отсмеявшись и разоблачив всю мертвенность, всю условность советских мифологических кодов, он внезапно обнаруживает возможности положительного движения в этом пространстве, на сей раз уже в пространстве воображаемом, сослагательном. Те же секты, бесспорно, продуцированы социалистическим способом мышления, они тоталитарны, но каждая из них при этом раскрывает какую-то истинную потребность человеческого сердца, которая не может выразиться иначе, как в заштампованных формах сектантского сознания. Трафарет – это очень мощный эмоциональный и мыслительный сгусток.
И.В. – Г.: Аналог всему тому, о чем вы писали, можно найти и на Западе, в свободном мире. В сущности битники, хиппи, яппи или какие-нибудь приверженцы здоровой пищи – это тоже «сектанты», и, если бы Запад потерпел поражение и развалился, как советское устройство, вы могли бы описать подобного рода движения в книге, очень напоминающей ваше «Новое сектантство».
М.Э.: Но в том-то и разница, что эти течения успели воплотиться, став интегральной частью истории западного мира, тогда как секты, о которых я говорю, никогда не существовали – разве лишь в самом зародышевом состоянии. Скажем, были люди, наподобие литературоведа В. Непомнящего, у которых Пушкин начинал перерастать в религиозную фигуру. Мне хотелось сгустить, дооформить эти неявные тенденции и показать, что святость может существовать во всем, в том числе и в Пушкине, как в боге осени, боге весны, фигуре полуязыческой, полухристианской. Я хотел на примере этих семнадцати сект не только продемонстрировать порочность тоталитарной манеры мышления, но – и это самое главное – выявить позитивные свойства той реальности, каждая частица которой по-своему свята. Каждая секта проводит сектирование, усечение объема реальности, но внутри него она свою усеченную реальность освящает, абсолютизирует. Это не история советской эпохи, а ее воображаемое продолжение и сослагательное наклонение, то позитивное, что могло бы в ней выразиться и сказаться. Есть движение битников в истории западной культуры, но нет движения пищесвятцев или пушкинианцев в зафиксированной истории советской культуры.
Ирина Врубель-Голубкина: Но чем отличается сектантство от религии или от тех полурелигиозных культов, которые создает внутри себя каждое общество, будь то культ Шекспира или Хаима-Нахмана Бялика?
М.Э.: Объект сектантского почитания частичен, а отношение к нему целостное. В этом коренное отличие сектантства от религии, которая являет собой целостное отношение к целостному объекту: благодаря своей целостности он перестает быть объектом и становится Единым, Абсолютом, Богом Живым. Сектантство же выбирает дом, пищу, Пушкина – частичные объекты и придает им абсолютное значение.
И.В. – Г.: То же происходило и в свободном мире…
М.Э.: Да, но свободное общество устроено так, что оно вырабатывает механизмы компенсации этой частичности. Одна частичность признает права другой, и границы между ними установлены в законодательном порядке. В советском мире все было не так, но какое сильное духовное напряжение окутывало советскую реальность! Неужели оно выразилось только в «Кратком курсе ВКП(б)» и пособиях для молодой свинарки? С этим я не был согласен, и в частности «Новое сектантство» явилось результатом моего несогласия. По ходу писания этой книги я как бы проходил курс обучения у собственного бессознательного. Свойственное мне бессознательное ощущение святости многих вещей, меня окружающих, я пытался сознательно реконструировать в виде идеологически оформленных сект, дабы самого себя научить, во что можно верить, а во что верить не следует. Та дисциплина, которую я называю идеософией и которая, в отличие от идеологии, движется мудростью, позволяет прийти к выводу о настоятельной потребности нашей в единоверии, ибо пристало нам молиться так: «Един Ты, Господи, да будет едина и вера в Тебя». Единобожие – только первая стадия грандиозного процесса, который не может завершиться иначе, как единоверием, потому что если един Бог, то единой должна быть и вера в Него. Можно говорить о некоем метаиудаизме. Если иудаизм открыл единого Бога, то последующее религиозное развитие человечества через многообразие религий единого Бога способно прийти к объединению вер вокруг единого предмета веры. Таким образом, «Новое сектантство» – это упражнение в единоверии через многообразие сектантских ересей и ошибок.
А.Г.: Это может быть названо романом воспитания? Негативной теологией в проекции автобиографии?
М.Э.: Романом самовоспитания с попыткой преодоления ересей через их умножение. Такой апофатический путь. Каждая секта как бы сама высмеивает свою односторонность, сохраняя в себе горчичное зерно истинной веры. В другой моей книге, «Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской литературе XX века», речь также идет о тех духовных потенциях, которые скрывались в беспросветном мраке советской эпохи.
И.В. – Г.: И которые сознавали себя как бессознательное…
М.Э.: Точнее, сейчас они могут себя осознать в таковом качестве и вследствие этого перестать быть бессознательным. Иными словами, я все время стремлюсь к выявлению позитивного духовного содержания, и в этой связи имеет смысл коснуться темы, о которой вы упомянули еще до того, как был включен диктофон, – о новой чувствительности в современной русской литературе. Это направление возникает после концептуализма, но неминуемо учитывает его, несет его в себе. Концептуализм был практикой обнаружения смерти слова – слово в советскую эпоху было умерщвлено. Одновременно он брал в кавычки не только идеологизированные и выхолощенные словесные знаки, специфически советские по своему устройству и происхождению, но и вообще высокие слова, бытующие в любой культуре. Концептуализм – это одно из направлений постмодернизма, и я напомню вам характеристику постмодерна, принадлежащую Умберто Эко. Когда современный человек хочет признаться в любви, он говорит не «Я тебя люблю», а «Я тебя люблю, как сказал бы такой-то», то есть он берет свою фразу в кавычки, и так же точно поступает постмодернизм: он все закавычивает, включая любовь. Концептуализм 70-80-х годов шел по пути умножения кавычек и демонстрации мертвенности слова, пока не уперся в тупик. В конце концов, слово «любовь» перестало обозначать что-либо, кроме любви к самим кавычкам. И следующая стадия состояла в том, чтобы начать обратный процесс – раскавычивания. Разумеется, эту обратную операцию можно совершить только с закавыченным словом, так что новый сентиментализм, новая чувствительность приходят после концептуализма. И мы видим здесь новое и горячее напряжение души, желающей работать с уже отработанным словом, превратившимся в штамп. Новая сентиментальность работает с мертвым словом, которое через глубину своей смерти удостоено воскресения. Мне вспоминается фильм Дмитрия Месхи «Над темной водой», он был снят несколько лет назад, и там якобы в пародийном ключе изображено поколение 60-х годов. Так вот, сын в этой картине спрашивает у своего уже покойного отца, с которым он ведет потусторонний диалог: «Зачем ты построил свою жизнь на дешевых эффектах?» А отец ему отвечает: «Что может быть прекрасней дешевых эффектов!» И мы понимаем, что дешевые эффекты действительно прекрасны. Вспомним Кибирова, очень близкого мне поэта: «Ангел тихий пролетел», «Мир спасется красотою, красотой», «Пасха, Лев Семеныч, Пасха», «Лев Семеныч, будь мужчиной, не увиливай от слез» – это из послания к Рубинштейну. Мужество уже состоит не в том, чтобы продемонстрировать свое превосходство над штампами, а в том, чтобы впадать в них, не бояться банальностей. Выясняется, что такие слова, как «ангел», «тихий», «люблю», – это не просто последние оставшиеся слова, но и первые попавшиеся. Банальность потому и банальна, что она, сразу попадаясь нам под руку, выражает движение нашей души. И подлинное литературное достижение людей, пишущих сегодня в манере новой чувствительности, заключается в том, что штамп может быть исключительно суггестивен, эмоционально насыщен, но это не препятствует ему быть штампом. В каком-то смысле это поистине чудо воскресения из смерти. Почему мы называем эту сентиментальность новой? Да потому, что чувствительность, не являющаяся новой, вечна, как вечна всякая пошлость, одинаковая во времена Пушкина, Кушнера или Алкея, эта сентиментальность никогда не умирает, ибо она и не живет. Сентиментальность же, о которой говорю я, совершается после смерти многократно закавыченного слова, когда распадаются кавычки и вокруг вернувшегося к жизни слова начинают летать птицы.