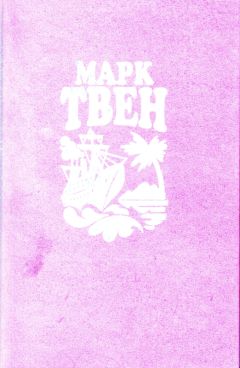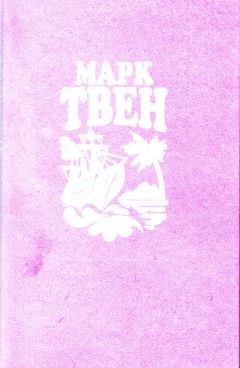Марк Твен - Простаки за границей, или Путь новых паломников
Я вошел в одну из каморок, разделся. Грязный заморыш повязал вокруг своих бедер что-то вроде пестрой скатерти и накинул мне на плечи белую тряпку. Если бы там была ванна, то мне было бы самое время помыться, но меня препроводили вниз по лестнице в сырой, скользкий двор, и тотчас мои пятки сверкнули в воздухе; но никто и глазом не моргнул: они этого, конечно, ждали, это входит в перечень размягчающих душу наслаждений, свойственных сему приюту восточной неги. Это, разумеется, достаточно размягчало, но не способствовало хорошему самочувствию. Затем мне дали деревянные башмаки, вернее деревянные скамеечки, которые привязывались к ногам кожаными ремешками (все бы ничего, да только я не ношу обувь пятидесятого размера). Когда я поднимал ногу, скамейки болтались на ремешках, когда опускал, они становились на пол под самым неожиданным и неудобным углом, а иногда и вовсе ложились набок, так что мне грозил вывих лодыжки. Но ведь это все были восточные наслаждения, и я изо всех сил старался наслаждаться.
Меня отвели в другую часть конюшни и уложили на нечто вроде старого соломенного тюфяка, крытого отнюдь не парчой и не персидской шалью, – это была самая обыкновенная подстилка, какие мне случалось видеть в негритянских кварталах Арканзаса. В этой мраморной темнице не было ничего, кроме пяти таких же гробов. Мрачноватая обстановка, что и говорить. Я надеялся, что вот теперь пряные арабские благовония окутают и разнежат меня, – но нет; скелет, обтянутый медно-красной кожей и опоясанный какой-то тряпкой, принес мне воды в стеклянном графине, в горлышко которого была воткнута зажженная курительная трубка с гибким черенком в ярд длиной и медным мундштуком.
Вот оно наконец, знаменитое наргиле, то самое, которое на всех картинках курит турецкий султан. Это уже походило на восточное наслаждение. Я сделал одну затяжку – и этого оказалось вполне достаточно. Дым ворвался в мой желудок, в легкие, заполнил все мои внутренности. Я кашлянул что было сил – и тут началось извержение Везувия. Добрых пять минут я весь дымился, как деревянный дом, в котором бушует пламя. Нет, хватит с меня наргиле! Вкус у дыма мерзостный, а вкус следов, оставленных устами тысяч язычников на медном мундштуке, и того мерзостнее. Я несколько упал духом. Если я теперь когда-нибудь увижу на пачке коннектикутского табака турецкого султана, который сидит по-турецки и курит наргиле с таким видом, словно он и в самом деле блаженствует, я буду знать, что он бесстыдный обманщик.
Воздух в этой мраморной темнице горячий. Когда я основательно прогрелся, меня повели в другую мраморную камеру – сырую, скользкую, насыщенную паром, и уложили на возвышение посредине. Там было очень жарко. Вскоре мой банщик усадил меня подле лоханки с горячей водой, хорошенько окатил меня, надел жесткую рукавицу и стал надраивать меня ею с головы до пят. От моей кожи пошел неприятный запах. Чем больше он тер, тем хуже от меня пахло. Я встревожился и говорю ему:
– Послушайте, я вижу – дела мои плохи. Чем скорее меня похоронят, тем лучше. Зовите моих друзей – ведь на дворе жарко, я, того гляди, совсем испорчусь.
А он все скреб и скреб как ни в чем не бывало. Немного погодя я заметил, что от его стараний я спал с тела. Он изо всех сил нажимал на рукавицу, и из-под нее выкатывались какие-то трубочки вроде макарон. Для грязи они были слишком белые. Он долго обрабатывал меня, и я становился все тоньше. Наконец я сказал:
– Это тяжкий труд. Чтобы обтесать меня до нужного вам размера, потребуется немало времени. Не проще ли сходить за рубанком. Я обожду.
Он будто не слыхал.
Немного погодя, он принес таз, мыло и что-то вроде конского хвоста. Взбил гору пены, окатил меня ею с головы до пят, даже не предупредив, чтобы я зажмурил глаза, и стал яростно надраивать меня этим конским хвостом, точно шваброй. Потом он вдруг ушел, а я так и остался лежать – белоснежная статуя из мыльной пены. Когда мне надоело ждать, я отправился на розыски. Я нашел его в соседней комнате. Он спал, подпирая стенку. Я разбудил его. Он нимало не смутился. Мы пошли обратно, он облил меня горячей водой, намотал чалму вокруг моей головы, закутал меня в сухую скатерть и, приведя в зарешеченный курятник на галерее, ткнул пальцем в одно из арканзасских лож. Я взгромоздился на него, все еще в глубине души надеясь вдохнуть арабские благовония. Но тщетны были мои надежды.
Пустая, ничем не убранная клетушка никак не располагала к той восточной неге, о которой столько написано. Она больше всего походила на больничную палату. Мой тощий банщик принес наргиле, но я сразу же велел унести его. Потом он принес прославленный на весь мир турецкий кофе, воспетый многими поколениями поэтов, и я ухватился за него, как за последнюю надежду, – только одна она и осталась от всех моих мечтаний о роскоши и неге Востока. И снова обман. Из всех варварских напитков, какие мне когда-либо случалось пробовать, ничего нет хуже турецкого кофе. Чашечка крохотная, вся вымазанная гущей, кофе черный, густой, скверно пахнет и отвратителен на вкус. Гуща оседает в чашке на полдюйма; когда пьешь, она застревает в глотке, щекочет, немилосердно дерет, и потом целый час только и делаешь, что кашляешь да отплевываешься.
На этом окончилось мое знакомство с прославленными турецкими банями, на этом пришел конец и моей мечте о блаженстве, которым там упивается смертный. Это злостное надувательство. Человек, способный наслаждаться этим, способен наслаждаться всякой мерзостью; и тот, кто окружает это ореолом очарования и поэзии, не постесняется воспеть все, что есть в мире скучного, дрянного, унылого и тошнотворного.
Глава VIII
Плавание по Босфору и Черному морю. – «Новоявленный Моисей». – Печальный Севастополь. – Радушный прием в России. – Охота за сувенирами. – Как путешественники составляют свои коллекции.
Мы оставили десяток пассажиров в Константинополе и прошли несравненным Босфором в Черное море. Мы оставили их в когтях знаменитого турецкого гида по прозвищу «Новоявленный Моисей», который уж непременно уговорит их накупить полный трюм розового масла, великолепных турецких одежд и всевозможных занятных, но совершенно бесполезных вещей. «Новоявленный Моисей» упоминается в неоценимых путеводителях Муррея, и ему всегда обеспечен кусок хлеба. Сознание того, что он признанная знаменитость, каждый день приносит ему все новые радости. Однако мы не станем изменять своим привычкам для того только, чтобы потакать капризам гидов; мы ни для кого не станем делать исключение. И невзирая на громкую славу этого гида и на хитрое имя, которым он так гордится, мы называли его, как и всех прочих гидов, Фергюсоном. Из-за этого он все время злился на нас. Между тем мы и не думали его обижать. С тех пор как, не щадя затрат, он вырядился в яркие широчайшие шальвары, желтые, с загнутыми носами туфли, огненную феску, голубую шелковую куртку, подпоясался широким кушаком из узорчатой персидской материи, заткнул за него целую батарею оправленных в серебро огромных пистолетов и подвесил на ремне устрашающую кривую саблю, – он стал считать невыразимым оскорблением, если его называли Фергюсон. Но что ж тут поделаешь? Мы всех гидов зовем Фергюсонами. Ведь нам не под силу выговаривать ужасающие иностранные имена.
Наверно, ни один из городов в России, да и не только в России, не был так сильно разрушен артиллерийским огнем, как Севастополь. И однако, мы должны быть довольны тем, что побывали в нем, ибо еще ни в одной стране нас не принимали с таким радушием, – здесь мы чувствовали, что достаточно быть американцем, никаких других виз нам уже не требовалось. Не успели мы бросить якорь, как на борт явился посланный губернатором офицер, который осведомился, не может ли он быть нам чем-нибудь полезен, и просил нас чувствовать себя в Севастополе как дома! Если вы знаете Россию, вы поймете, что это было верхом гостеприимства. Русские обычно с подозрением относятся к чужеземцам и терзают их бесконечными отсрочками и придирками, прежде чем выдадут паспорт. Будь мы из любой другой страны, нам и за три дня не удалось бы получить разрешения войти в Севастопольский порт, нашему же пароходу было позволено входить в гавань и покидать ее в любое время. В Константинополе все предупреждали нас быть поосторожнее с паспортами, следить, чтобы все было записано согласно форме и чтобы паспорта всегда были при нас; нам рассказывали о многочисленных случаях, когда англичан и других иностранцев многие дни, недели, даже месяцы задерживали в Севастополе из-за пустяковых неточностей в паспорте, в чем они к тому же не были виноваты. Я потерял свой паспорт и отправился в Россию с паспортом своего соседа по каюте, который остался в Константинополе. Прочитав его приметы в паспорте и взглянув на меня, всякий сразу увидел бы, что у меня с ним сходства не больше, чем с Геркулесом. Поэтому я прибыл в севастопольскую гавань, дрожа от страха, почти готовый к тому, что меня уличат и повесят. Но все время, пока мы были там, мой истинный паспорт величаво развевался над нашими головами – то был наш флаг. И у нас ни разу не спросили иного.