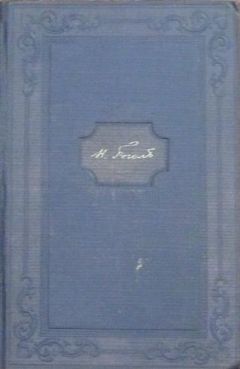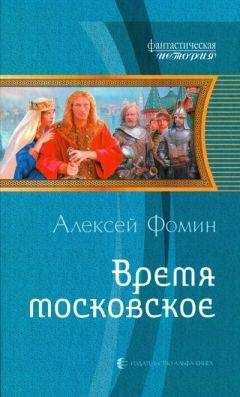Николай Гоголь - Письма 1836-1841 годов
Но довольно. Я уверен, что всё это мною сказано не на ветер. Я очень рад, что у тебя есть теперь знакомство. Две приятные и умные соседки — это счастие в деревне. И потому ты старайся быть с ними почаще. [Далее пропуск — см. Примечания. ]
Наконец поговорим еще об одном довольно важном предмете. Слушай, моя душа. Тебя должно непременно тронуть положение маминьки, на которой лежит столько забот и такая сильная обуза, что весьма немудрено, если и у человека сильного закружится голова и кончится тем, что он наконец ничего не будет делать. Слушай. Нужно, чтоб и ты и Оля взяли на долю какие-нибудь маленькие части хозяйства и чтобы уже аккуратно вели дела свои. Например, ты возьми на долю свою молочню, то есть смотри, чтоб при тебе набиралось молоко, делалось масло, сыр, и замечай внимательно, сколько чего должно быть, чтобы потом не могли тебя ни обмануть, ни украсть. Натурально, этого еще немного для тебя. Ты возьми на свою долю еще овец. Пусть к тебе приходит каждый день овчар и рапортует тебе подробно. Ты отправляйся почаще туда сама, — лучше, если пешком, и поверяй почаще всё на деле. Несколько раз заставь, чтобы доили при тебе, чтобы знать, сколько наверное могут давать молока. Записывай родившихся вновь, отправленных на стол, прибывших и убывших. После того, когда ты увидишь, что с этим всем управляешься хорошо, можешь присоединить к этому и что-нибудь другое. Без этого никогда не будет никакого толка в хозяйстве, если сами хозяева не будут входить во всё. А так как одному человеку нельзя входить во всё, то по этому самому и должно непременно разделить труды. Иначе ключницы, домоводки и управители, как бы ни казались надежны с виду, всегда кончится тем, что будут наконец обкрадывать, или, еще хуже, нерадеть и неглижировать. Олиньке тоже выбери на долю какую-нибудь часть по силам. Ты увидишь потом, какую окажешь этим пользу хозяйству и как облегчишь труды маминьки, тем более что у ней столько главных статей хозяйства: уборка и посев хлеба, льну, гумно, винокурня и мало ли чего еще? страшно и подумать даже. Желал бы я очень знать, что ты на это скажешь и какое это произведет на тебя действие, и потому жду нетерпеливо твоего ответа. Ты верно сама об этом подумаешь и рассмотришь довольно сурьезно и, может быть, найдешь с своей стороны кое-что новое еще насчет этого предмета: как лучше и как дельнее за него взяться и прочее и прочее. А что в этом ты увидишь пользу и увидишь, что сделаешь истинно доброе дело,
в этом я почти уверен… почему… не нужно говорить почему. Довольно. — Целую тебя и поздравляю с днем ангела нашей маминьки. Ибо в этот день именно я пишу письмо. Обними за меня старшую сестрицу и Олиньку. Поцелуй моего крестника, но прежде подери его немножко за уши. Скажи ему, что я бы давно ему прислал гостинцев, но нарочно не хочу, потому что он шалун. И что если он хочет, чтобы я прислал к нему одну удивительную для него вещь, то пусть шалит никак не больше одного разу в неделю, да и то не раньше как после обеда. Больше не успеваю писать. Еще хотел кое-что сказать тебе, но пусть до другого письма. Прощай, душа!
Твой брат.
М. П. ПОГОДИНУ
Рим. Октября 17 <н. ст. 1840.>
Не стыдно ли тебе? Потому только, что я не писал к тебе, ты обо мне заключил и подумал… Кто же я? Итак, ты меня не знал даже настолько, чтобы не заключить… Клянусь, я больше вправе на тебя быть сердитым, чем ты на меня. Итак, если бы, положим, кто-нибудь наврал на меня, рассказал небылицу, несходную ни с моим характером, ни с образом мыслей, ты бы поверил. Не стыдно ли тебе! Почему я не писал к тебе? Ты бы мог сам найти причину, и именно уже ту, почему, оставшись наедине с самым искреннейшим другом, молчишь с ним по нескольку часов, тогда как говоришь тут же иногда очень бегло и находишь материю для разговора с лицом более посторонним. Уже одну эту причину ты бы должен привести и внутренно извинить меня. Я покорен теперь более, нежели когда-либо, весь расположению душевному, хотя (увы!) оно бывает иногда болезненное. У меня не было тогда душевного расположения писать к тебе, и я не писал. Было один раз расположение писать к тебе, но (боже!) в какую минуту. Я написал, но не послал письма, и хорошо сделал. Но ты ни в каком отношении не должен бы подумать. Пусть бы другой. Другому, может, всякому, кто бы он ни был, я бы скорей простил. Но тебе нет. Я бы привел две-три причины, которые споспешествовали к тому, что я не писал к тебе. Но после этого объяснения всё лишне.
Ну, дай мне свою руку! я тебе прощаю, что ты огорчил меня. Друг мой!.. Боже! не совестно ли тебе… ты многого [немного] не понял в некоторых случаях во мне. Ты суровым упреком мужа [друга] встретил меня там, где расстроенная душа моя ждала участия нежного, почти женского. Я был болен тогда душою. Теперь тебе самому, может, объясняется много, и ты, может быть, видишь сам, что ты иногда слишком поспешен в заключениях. Но [Далее было: всё если б я знал] заключение твое последнее поспешнее всех. Ты хотел разом отнять у меня и глубину чувств, и душу, и сердце, и назначить мне место даже ниже самых обыкновеннейших людей. Как будто бы это легко, как будто бы это может случиться в природе. И ты в познании сердца челов<еческого> из Шекспира попал в Коцебу. Но ты, верно, этот упрек сделал уже себе, как только взошли тебе на ум наши отношения друг к другу. Целую тебя и довольно.
Благодарю за известие об Лизе. Я не имел в том сомнения, чтобы она не становилась лучше, но всё <же> нельзя, чтобы я был совершенно спокоен насчет <ее>. Есть еще в характере ее некоторая легкость и что<-то> такое, но жизнь богата испытаниями, которые благотворно освежают и укрепляют, укрепят и ее. В ней недостаток именно того, что есть у сестры ее. Если б и это у ней было, тогда бы я просто закрыл глаза покойно. Анетой я доволен совершенно, и каждое письмо ее делает меня еще довольнее. Как поняла она свое положение! Уже в последний день, [Далее было: проведен<ный>] который она провела со мною, я прочитал в лице ее решительность и силу и видел в жадности, с какой она меня слушала, что уже с моей стороны сделано всё. Начать с того, что она прежде всего выздоровела совершенно, сделалась резва, жива и бегает так, что ее трудно удержать. Увидела вдруг, в чем она может быть нужна матери и что делает нехорошо. Наконец самое главное — умела выйти из круга того, который окружает их, и составить себе круг знакомых мимо этой коры, сквозь которую редкая из женщин продирается. Письма ее наполнены благодарностью ко мне и дышат нежностью. Словом, я покоен как нельзя более за нее. А Лиза, Лиза может сделаться еще лучше, чем теперь, благодаря обществу, которое ее теперь окружает. Вы, Аксаковы, Раевские — тут, кроме хорошего, натурально ей ничего нельзя занять. Лиза — золото, если попадется в хорошие руки. Если же в дурные или такие, которых превосходства над собою она не почувствует, то Лизы в несколько дней нельзя будет узнать. Вот почему я подумать не могу без страха, если б ей, не дай бог, случилось жить с матерью и сестрами и еще в такой деревне и круге. Но об этом доволь<но>, всё слава богу, идет с этой стороны очень хорошо.
Рад очень твоему счастию, т. е. редким находкам, сделанным тобою. Одною из них ты потчеваешь меня, как такою, которая ближе всего лежит ко мне, но таким образом, как один раз журавль позвал к себе кума, кажется, волка, на обед и велел блюда подавать в сосудах с такими узкими горлами, куда только один журавлий нос мог просунуться, и кум только нюхал, да помахивал хвостом, браня свою толстую морду. Хоть бы какими-нибудь пахучими выписками из нее попользоваться, [Далее начато: а теперь мне] т. е. где пахнет более старина и обряд [дух] старинных времен. Еще более я рад свежести сил твоих, здоровью и наслаждению, посещающему тебя в благих трудах. Счастливец. Да продлит бог до 90-летнего твоего возраста это душевное состояние.
А я — не хотелось бы, о! как бы не хотелось мне открывать своего состояния. И в письме моем к тебе из Вены я бодрился и не дал знать тебе ни слова. Но знай всё. Я выехал из Москвы хорошо, и дорога до Вены по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал. Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно, я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, [усыпления] в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление… Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко О! какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время [в последний раз] лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что всё во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши всё, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей.