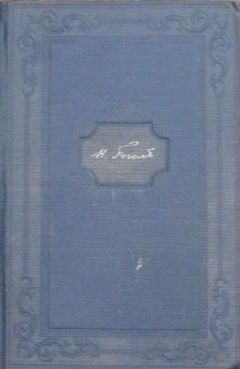Николай Гоголь - Письма 1842-1845 годов
Ваш Г.
Адрес — во Франкфурте.
Обнимаю от всей души весь ваш дом!
А. О. СМИРНОВОЙ
Франкфурт, 16 мая <н. ст. 1844>
Мне жаль, что в письме к Перовскому упомянул об вас. В таком случае вы напишите ему, что не отвечали ничего на мой запрос. Видите ли теперь сами, как много для меня значит познание самых по-видимому незначительных обстоятельств. Самого простого письма из пяти строк я не мог написать умно. Я только и могу поступить умно, когда ум мой обнимет со всех сторон решительно предмет. Потому-то теперь я более, чем-когда либо, боюсь вмешаться в какое-нибудь дело, до тех пор, пока не узнаю всех самомалейших подробностей. Мне всегда выгодней быть последним. Но оставим это и обратимся к вашему письму. В письме вашем слышится повсюду неудовлетворенное [какое-то неудовлетворенное] состояние души. Избегайте обедов и гадких разговоров, или лучше старайтесь всякий гадкий разговор обратить сколько возможно в хорошую сторону. Это не так невозможно, как вам кажется. Люди, [Люди же] с которыми вы обращаетесь, не вовсе же дурные; они закружились только на светской поверхности, но не могут быть чужды душевного слова, и направленье разговора очень часто бывает в наших руках. Но у вас иногда бывают крайности, [Но у вас всё крайности] вы думаете, что можно говорить или о святых вещах, или о мерзостях. Вы мне часто говорили: «О чем же мне говорить с таким человеком, как не о гадостях? он другого и понять ничего не может». Но вот вопрос, нужно ли говорить непременно [говорить с тем] о гадостях с тем человеком, который не понимает высоких [многих высоких] и прекрасных вещей? Человек все-таки не скотина, есть в нем и добрые стороны; зачем же нужно, чтобы к вам он был непременно обращен скотскою стороною? Скажите мне также, зачем утвердилось о вас всеобщее мнение, что никто столько не может рассказать соблазнительного, как вы, и что с вами нужно непременно говорить об этом? Конечно, это говорят не те, которые вас коротко знают, а светские болтуны и пустые люди, [светские люди] вы можете их называть болтунами и лгунами: они отчасти то и другое, но дыма без огня не бывает. Разберите-ка себя хорошенько и построже: не подстрекали ли вы их сами вместо того, чтобы унимать; не задирали ли их сами на такой разговор, не говорили ли им: смелей, вперед! Я был раза два тоже свидетелем, как вы подлили масла в огонек, который уж было совсем потухнул. Откуда в вас могло родиться такое правило: [положение] что человеку, у которого желудок слаб и неспособен к принятию крепкой пищи, не следует вовсе давать пищи? Вы сначала попробуете и ему вдруг разом в лицо столько бросите [Далее было: хорошего и стало быть] крепкого и неудобносваримого для него, что он и руками и ногами, и назад от вас, а заметивши, что он и руками и ногами, вы ему тот же час дряни, и стараетесь ее побольше, поувесистей, так чтобы он совершенно остался вами доволен. Смотрите, вы всё бы хотели поворотить круто, всё взять приступом, а не сдается, — вы тот же час назад, да и сами иногда давай подплясывать под дудку того, которого вы прежде хотели заставить плясать. [Далее начато: В д<остижении>] Еще нужно сказать, что в достижении какого-либо дела вы видите вообще или совершенную невозможность, или какие-то иезуитские кривилизны. [какие-то крив<илизны>] Закон божией премудрости для вас мертв. Вы верите только чуду, но чудом помогает нашему бессилию в слишком важных случаях [Далее было: а от нас бог] бог, а от нас требует собственной работы, требует, чтобы мы подражали ему самому, [Далее было: мудрости требует от нас] требует той самой мудрости, которую он разлил повсюду в своих творениях. Всякий предмет в мире поставлен нам в урок [в упрек] и в упрек. Смотрите, какая глубокая постепенность в ходе всякого дела божия, [Далее начато: какой стройный закон и порядок] как одно истекает из другого. Сколько терпенья видно у бога во всяком деле! А у вас терпенья и в маковое зернышко нет, всё скачками да прыжками. Постепенности в делах не только вы не видите, даже не хотите подозревать, чтобы она была. Случалось ли вам хотя <раз задум>аться [Подлинник поврежден] сурьезно над следующим вопросом: все эти разнообразные качества, которые даются женщине и которые дают ей такую власть над мужчинами, остроумье разговора, любезность и ловкость его, неужели всё это дается даром? (у бога вряд ли дается что даром) или, что еще страннее, неужели всё это дается для того, чтобы дать непременно самое пустое или даже совершенно дурное направление? Не хочу разрешать тут ничего с моей стороны, а скажу только, что мне иногда случалось быть свидетелем, как женщина, даже нельзя сказать слишком умная, овладевала всеобщим разговором. Разговор вовсе не был какой-либо нравоучительный, но однако ж много было сказано такого, которое как-то невольно дошло до души; а между разговаривавшими [между слуш<авшими>] были однако ж очень умные и очень развратные, [и умные и разв<ратные>] но никому не было скучно. И после разговора как будто невольно почувствовалось какое-то благоухание, точно как бы [как будто] в комнате покурили чем-то неприятным. Положим, это мгновенное благоухание незначащая вещь. Но хорошо, если оно [и оно] остается. Один раз, другой, третий, такое благоухание для души не безделица. По крайней мере, уже носу становится не так ловко после этого в той комнате, где курят другим запахом и подпускают собственных шпионов. [Далее начато: Смотрите]
Много есть вещей, на которые следует взглянуть гораздо пристальнее, чем мы глядим. Многие люди смело произносят: «Этого нет», потому только, что они этого не видят. Смотрите, есть отчасти и за вами этот грех. Вы пишете мне, что «принимаете мои упреки с удовольствием, но надобно, чтобы они были справедливы». Экая штука! это может сделать всякий сколько-нибудь умный человек, даже и не христианин. А не угодно ли вам принять несправедливые упреки? Да притом позвольте вас спросить: что вы, разве святая? Одна святая может сказать, справедливы или несправедливы упреки. [Далее начато: Для] Или разве вы дошли уже до такого совершенства, что уже можете всю себя видеть, со всеми пятнышками, какие есть на душе вашей? Или зеркало вашей совести уже так стало ясно и светло, что перед ним открывается сам собой самый малейший ваш проступок? Поздравляю вас, если вы дошли до такой мудрости, что можете разрешить вдруг не запинаясь, справедливы ли или несправедливы упреки! В таком случае научите меня тому же, потому что я всякий день отыскиваю в себе какую-нибудь новую мною не замеченную гадость и вижу, что все почти мне сделанные упреки справедливы, не только сделанные умными людьми, но даже и те, которые сделаны людьми, на которых я и вниманья не хотел обратить прежде и которые вследствие озлобления мне их сделали. Нет, извольте-ка принять и несправедливые упреки за справедливые, и всякий день в них всматриваться, как в зеркало, авось среди несправедливого отыщется что-нибудь и справедливое. А без этого вы во веки веков не уйдете вперед, то есть будете думать, что вы ушли вперед, а уходить будете только теоретически, а не практически.
Позвольте спросить также, что значит это гордое выражение в вашем письме: «Никто так не закрывает души своей, как я»? Да ведь как же закроешь душу? для этого нужно не говорить ничего, не делать никаких дел, спрятаться от всех и даже не показывать никому своего лица. Да и как караулить за душой? Иногда закрывая открываешь и открывая закрываешь. Что значит также другое, не менее гордое выражение: «Ум мой всем доступен, а душа едва ли кому открыта, как вам»? Во-первых, ум вовсе не какое-нибудь отдельное существо, он только проводник и часто бывает наш первый предатель. Как можем [как мы можем] отделить его от всяких страстных увлечений, опутывающих нашу душу и сердце? Как держать его в независимости от души, когда он зависит весь [Далее начато: из исходящ<их>] от движений, исходящих от души, от них и он тускнеет, от них и он светлеет. Довести до бесстрастного состояния свой ум может только тот, кто сам бесстрастен, не чувствует никогда ни гнева, ни неудовольствия, ни досады. Но тогда произойдет другое явление: весь ум как бы исчезнет и останется одна душа. В нем, как в чистом, прозрачном и бесцветном стекле, выкажется душа со всеми малейшими своими оттенками, о чем бы ни касалась речь и о каком бы постороннем предмете ни были толки, так же, как в самой душе, станет отражаться сам бог. Итак, не отзывается ли гордостью и даже необдуманностью эта первая половина вашей фразы? Рассмотрим теперь другую половину: душа моя едва ли кому открыта, как вам (т. е. мне). Вы ее видели во всей черноте и наготе. Боже сохрани показать ее такою другим. Если сказать вам сущую правду, то узнал я душу вашу не тогда, когда вы мне ее открывали, а тогда, когда речь шла часто о посторонних предметах, когда вы невольно и не думая проговаривались или невинно и чистосердечно высказывали те стороны ее, которых, может быть, вы и сами еще не вполне оценили и узнали. В такие только минуты я отчасти узнавал вашу душу, и не вследствие каких-либо умственных выводов и заключений, а потому, что сам бог вложил в душу мою прекрасное чутье слышать душу — источник многих моих радостей и наслаждений. Вот чему я обязан, если сколько-нибудь вас знаю. А из ваших рассказов я узнал, впрочем, одни только хорошие свойства вашей души. Вы распространялись передо мною только об одних ваших хороших поступках, а о дурных вы стали упоминать только в последние дни вашего пребывания в Нице, и то вскользь, в одних общих словах, без начала, без конца, без причин, без последствий, [без следств<ий>] в загадочных отрывках, и сжимались в ту же минуту от всякого моего запроса, так что нужно было переменить разговор и обращаться к другим предметам. Из этого вы не выводите себе упрека. Напротив, вы сделали хорошо, что не говорили, потому что говорить об этом следует тогда, когда сама душа услышит потребность. Но я привожу вам в доказательство несправедливости вашего выражения; вы обманываете себя, если думаете, что я знаю вашу душу во всей ее черноте и наготе. То, что вы сказали мне о себе, может сказать о себе публично всякий христианин. Сказать в общих словах: Я преступил против такой-то заповеди — еще небольшая вещь! От таких слов даже и раскаяния не получишь, даже и не покраснеешь. Напротив, можно сказать, что скорее другие видят в черноте вашу душу, чем я. Да развесь я только уши — так мне с обеих сторон наговорят о вас таких подробностей, о которых вы и не подумаете, чтобы они были кому-нибудь известны.