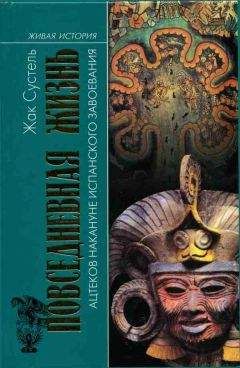Жак Сустель - Ацтеки. Воинственные подданные Монтесумы
Само слово, обозначающее поэта (куикани, певец), показывает, что стихотворение и песня были синонимами, так как стихотворение всегда пели или, по крайней мере, декламировали под аккомпанемент музыкальных инструментов. Тексту некоторых стихотворений предшествовала условная запись, показывающая ритм тепонацтли, чьи удары должны были сопровождать декламацию.
Некоторые стихи показывают, что поэт осознавал свою высокую миссию:
Я режу нефрит, я лью золото в тигель!
Вот моя песня!
Я вставляю изумруды:
Вот моя песня.
А еще он говорил так:
Я поэт, владыка песни,
Я певец, я бью в свой барабан.
Пусть его звуки пробуждают
Души моих товарищей, что уже мертвы.
И еще:
Я певец, я сочиняю стихотворение,
Которое сияет, как изумруд,
Блестящий, драгоценный и прекрасный изумруд.
Я подстраиваюсь к звукам мелодичного голоса циницкана…
Как звон маленьких колокольцев,
Маленьких золотых колокольцев…
Я пою свою песню,
Полную ароматов, подобно сияющей драгоценности,
Сияющей бирюзе или ослепительному изумруду,
Свой цветущий гимн весне.
Сами ацтеки подразделяли поэзию на определенные виды, первым из которых был теокуикатль (священная песнь) или гимны. И к счастью, при помощи источников, информировавших Саагуна, мы имеем запись некоторых из них – истинное сокровище для изучения языка древних мексиканцев и их религиозной мысли. Читая их, следует помнить, что эти стихи не только пели, но и «изображали», то есть каждое стихотворение (повторенное, без сомнения, огромное количество раз) сопровождалось определенным ритуальным действом, некоторыми установленными действиями жрецов или каким-нибудь особым костюмированным танцем.
Эти религиозные песни, перенесенные, по традиции, из далеких времен, зачастую были очень туманными или даже совершенно непонятными самим же ацтекам, или, по крайней мере, тем из них, кто не был жрецом. Они полны скрытых намеков и метафор.
Цветок моего сердца раскрылся,
Вот властелин Полночи.
Она пришла, наша мать, она пришла,
Она, богиня Тласольтеотль.
Родился бог маиса
В раю Тамоанчана,
Во дворце, где цветы поднимают свои головки,
Тот, (кого зовут) «один – цветок».
Родился бог маиса
В саду дождя и тумана,
Там, где делаются дети человеческие,
Там, где они ловят нефритовых рыбок.
И вот день: приближается заря.
Птицы кецаль перелетают с места на место и кормятся
Там, где прямо стоят цветы…
В честь национального бога Теночтитлана они пели:
Я Уицилопочтли, молодой воин.
Другого такого нет.
Напрасно я не надел свой плащ из перьев попугая,
Так как благодаря мне солнце встало.
А это – в честь богини Тетеоиннан, матери богов:
Раскрылся желтый цветок.
Она, наша мать, в маске из кожи
Пришла из Тамоанчана.
Желтый цветок расцвел.
Она, наша мать, в маске из кожи
Пришла из Тамоанчана.
Раскрылся белый цветок.
Она, наша мать, в маске из кожи
Пришла из Тамоанчана.
Белый цветок расцвел.
Она, наша мать, в маске из кожи
Пришла из Тамоанчана.
Ах, она стала богиней
Посреди кактусов, наша мать,
Обсидиановая бабочка.
Ах, ты узрела Девять Степей!
Она питается сердцами оленей,
Наша мать, богиня земли.
А вот еще одна земная богиня, Сиуакоатль, в двух своих ликах, сельском и воинственном:
Орел, орел, Килацтли!
Ее лицо окрашено кровью змеи,
А орлиные перья – ее корона.
Это она защищает кипарис
Страны Чалмана и Кольуакана.
Маис растет на священном поле.
Богиня опирается на свой посох с колокольчиками.
Колючка агавы, колючка агавы в моей руке,
Колючка агавы в моей руке.
На священном поле
Богиня опирается на свой посох с колокольчиками.
В руке моей пучок сорной травы.
На священном поле
Богиня опирается на свой посох с колокольчиками.
«Тринадцать – орел» – так ее называют,
Нашу мать, богиню Чалмана.
Дай мне кактус-стрелу, священную эмблему.
Вот мой сын Мишкоатль.
Наша мать – воительница, наша мать – воительница,
Косуля Кольуакана,
Она украшена перьями.
Вот и заря! Дан приказ сражаться.
Вот и заря! Дан приказ сражаться.
Может быть, мы приведем с собой пленников!
Земля будет опустошена!
Она, косуля Кольуакана,
Украшена перьями.
Другие, гораздо более простые гимны, представляют собой на самом деле немногим более чем бесконечно повторяющиеся формулировки. Примером может послужить песнь Чикомекоатль, богини маиса. Распевая ее, они пытались побудить природу к ее ежегодному возрождению.
О почтенная богиня Семи Початков,
Поднимись, пробудись!
О наша мать, ты покидаешь нас сегодня,
Ты отправляешься в свою страну, Тлалокан.
Поднимись, пробудись!
О наша мать, ты покидаешь нас сегодня,
Ты отправляешься в свою страну, Тлалокан.
Стихи, не относящиеся к гимнам, мексиканцы подразделяли на несколько категорий по темам, происхождению или природе: яокуикатль, военная песня; чалькайотль, стихотворение на манер Чалько; шочикуикатль куэкуэчтли, цветистая, добродушно-шутливая песня; шопанкуикатль, стихотворение о весне и т. п. Некоторые из этих стихотворений, например песнь о Кецалькоатле, были настоящими сагами, а другие – размышлениями о краткости бытия или о неясности судьбы.
В сочетаниях декламации, песни, танца и музыки можно также найти элементы драматического искусства: в этих представлениях участвовали актеры, одетые в костюмы, изображающие исторических или мифологических героев. Они использовали диалог, и время от времени герои и хор сменяли друг друга. В этих представлениях, бывших одновременно и балетом, и трагедией, обычно изображался, например, царь Несауальпилли, или его отец Несауалькойотль, или император Монтесума. В них вставлялись исполняемые в пантомиме песни. Некоторые из них пели женщины. Например:
Мой язык из коралла,
Из изумруда мой клюв;
Я много думаю о себе, о мои родители,
Я, Кецальчикцин.
Я раскрываю свои крылья,
Я рыдаю над ними:
Как мы поднимемся в небо?
Актриса, которая пела эти слова, вероятно, была одета в костюм птицы.
Цветы и смерть, как навязчивые идеи-близнецы, украшают всю мексиканскую лирическую поэзию как своим великолепием, так и своими тенями.
О, если бы можно было жить вечно.
О, если бы не было смерти.
Мы живем, а наша душа разрывается,
Молния сверкает вокруг нас.
За нами следят и на нас нападают.
Мы живем, а наша душа разрывается. Мы должны страдать.
О, если бы можно было жить вечно.
О, если бы не было смерти.
И опять:
Уйдет ли мое сердце,
Как увядают цветы?
Неужели когда-нибудь мое имя превратится в ничто?
И моя слава пройдет на земле?
Так пусть у нас будут хотя бы цветы!
Так пусть у нас будет хоть немного песен!
Как мое сердце сможет все пережить?
Мы влачимся на земле напрасно.
Это стихотворение из Чалько демонстрирует такую же озабоченность:
Напрасно ты берешь свой украшенный цветами тепонацтли,
Ты бросаешь пригоршни цветов – но все тщетно;
Они вянут.
Мы тоже, мы поем здесь нашу новую песню,
И в наших руках
Новые цветы.
Может быть, наши друзья порадуются цветам.
Может быть, грусть уйдет из наших сердец.
Пусть никто не будет охвачен грустью,
Пусть ничьи мысли не блуждают над землей.
Здесь у нас дорогие нам цветы и песни.
Может быть, наши друзья порадуются им,
Может быть, грусть уйдет из наших сердец.
О друзья, эта земля только временно дана нам.
Нам придется забыть наши прекрасные стихи,
Нам придется оставить наши чудесные цветы.
Вот почему я грущу и пою солнцу,
Нам придется забыть наши прекрасные стихи,
Нам придется оставить наши чудесные цветы.
И отсюда мы переходим к выражению той чувственной философии, которая явно была широко распространена среди более образованных людей:
О, вы не придете дважды на эту землю,
Владыки чичимеков!
Будем счастливы! Разве берут с собой цветы в страну мертвых?
Они нам всего лишь временно даны.
Правда в том, что мы смертны;
Мы оставляем цветы, и песни, и землю.
Правда в том, что мы смертны…
Если только здесь, на земле,
Есть цветы и песни,
То пусть они будут нашим богатством,
Пусть они будут нашим украшением,
И давайте будем счастливы с ними!
В поэзии мексиканцев также можно увидеть и великолепные пейзажи их страны. Один из послов, отправленных Уэшоцинко за помощью к Монтесуме, видит с высоты горных вершин всю долину Мехико, расстилающуюся перед ним: