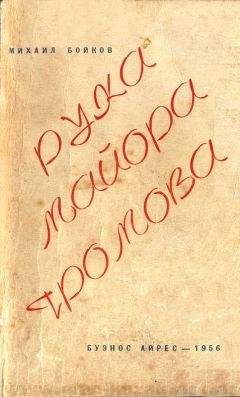Михаил Бойков - ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ
— Вполне понятно. О взаимоотношениях бывших Следователей и их подследственных в тюремных камерах я кое-что слышал, — не без злорадства подтвердил я.
— Так вот, мой дорогой, сами видите, что у меня имеются серьезнейшие основания избегать посадки в тюрьму. Поэтому… дьявол тебя возьми… я прикажу….
Он вскочил с кресла, ударил кулаком по столу и, не владея собой, закончил почти ревом:
— Прикажу арестовать твою жену и мать! Прикажу Кравцову допрашивать их, как он допрашивал тебя! Ты в наручниках будешь сидеть вот здесь и смотреть! Хочешь этого? Хочешь?
Сердце бешено заколотилось у меня в груди. Голове моей сделалось жарко от прилившей к ней крови. Еле владея не повинующимся мне языком, я хрипло вы-давил из себя:
— Н-не х-хочу!
— Если не хочешь, тогда сейчас же подпиши вот это, — сказал сразу успокоившийся следователь, садясь в кресло и протягивая мне через стол лист бумаги. На нем было всего лишь несколько строк:
"Я, нижеподписавшийся, признаю себя виновным в том, что состоял и активно работал во вредительски-шпионской контрреволюционной организации".
— Ну, подписывай, — пододвинул ко мне чернильницу и ручку с пером Островерхов.
— Погодите! Дайте мне подумать, — попросил я.
— Хорошо! Думай! Только недолго! у меня нет времени ждать, — согласился он и, вынув из ящика стола какое-то следственное дело, стал перелистывать его.
Я сидел, думал и вспоминал. Перед моим мысленным взором быстро проносились лица подследственных, тюремные камеры, страшные эпизоды "конвейера пыток". Они безмолвно говорили мне, что сопротивление энкаведистам бесполезное занятие, что меня сломят.
Мне вспомнились произнесенные в разное время слова разных людей о силе НКВД и его "конвейера".
— Здесь… в моем кабинете признаются во всем или… умирают от разрыва сердца, — прошелестели когда-то губы телемеханика Кравцова.
Через несколько месяцев наш редактор О-в подтвердил его чуть слышный шопот стуком тюремной азбуки через стену:
— Если у тебя нехватит сил, тогда признавайся! И, наконец, совсем недавно Виктор Горяго говорил в общей подследственной:
— Я видел тысячи заключенных, но ни одного не-признавшегося среди них не было. Почему? Непризнавшиеся умерли на допросах…
Эти слова вытеснились мыслями о жене и матери:
"Неужели их арестуют и будут пытать? Конечно, будут. Для НКВД все возможно. Их надо спасти. Попытаться спасти. Зачем гибнуть троим вместо одного?"
Островерхов поднял глаза от папки следственного дела.
— Подумали?
— Да, — еле слышно выдохнул я.
— Подписываете?
Мысли о матери и жене опять овладели мной.
— Подпишу, но… с одним условием.
— Что там еще за условия? — раздраженно спросил он.
— Добавьте к показанию несколько слов.
— Каких?
— О том, что мать и жена, а также брат про мои антисоветские дела ничего не знали.
— Хотите гарантий для них?
— Да!
— Хорошо! Припишите сами. Ваши родные не интересуют следствие.
На листе бумаги, после нижней строчки, я дописал:
"Мои мать, жена и брат в моей контрреволюционной деятельности не участвовали и ничего о ней не знали".
Затем с усилием, разбрызгивая чернила, поставил свою подпись.
Островерхов выхватил у меня из рук роковой лист, прочел написанное и воскликнул:
— Наконец-то! Последнее звено крепко вошло в цепь!
Глава 24 ПРИГОВОР
— Ну-с, дорогой мой, теперь мы должны будем детализировать ваши показания.
Такими словами встретил, меня Островерхов, вызвав из камеры два дня спустя после моего признания.
— Разве подписанного мною недостаточно? — спросил я тоскливо. Эти два дня меня беспрерывно грызла тоска и угнетало сознание непоправимости того, что я сделал, подписав бумажку с "признанием".
— Конечно, нет, милейший, — слащаво протянул следователь. — Вы подписали черновик протокола о вашем участии в деятельности контрреволюционной организации. А в какой? Что это за организация и в чем выражалась ее деятельность? Какую именно работу выполняли вы по ее заданиям? Кто вас в нее завербовал и кого завербовали вы? Ведь это надо выяснить, уточнить, детализировать. Не правда-ли?
— Но откуда я все это могу знать?
— А вот вы сейчас познакомитесь с делами ваших сослуживцев и вам все станет ясно и понятно.
Он извлекает из лежащей на столе кипы следственных "дел" несколько папок и пододвигает ко мне. Первая из них — "дело" нашего редактора О-ва. С тревожно забившимся сердцем я раскрываю ее и жадно углубляюсь в чтение.
Боже, чего он только не написал! Какие чудовищные, какие нелепые обвинения возведены им на себя, меня и других. Измена родине, вредительство на протяжении трех лет, связь с антисоветскими организациями за границей, шпионаж в пользу разведок США, Англии, Германии, Польши, Румынии, Японии. Мне отведена двойная роль английского и польского шпиона. Какая чепуха! Ведь ничего этого не было.
Вчитываясь внимательнее в показания О-ва, я постепенно начинаю видеть в них не только чепуху. Показания написаны умно и хитро, написаны так, что он может опровергнуть на суде каждое из них.
Чтение "дел" О-ва и других заняло у меня часа четыре. Островерхов в это время занимался просмотром папок с другими "делами", несколько раз выходил и возвращался в кабинет. Наконец, дочитав последний лист, я закрыл папку.
Следователь, сквозь стекла пенснэ, уперся в меня глазами-сливами.
— Прочли?
— Прочел.
— Надеюсь, вам ясно, что от вас требуется?
— Не совсем.
— Вы должны описать все подробности вашей антисоветской деятельности и подписаться в конце строки каждого абзаца.
— Но я не знаю что и как писать.
— Не знаете? Странно. Неужели вы ничего не слыхали в камерах о том, как пишут другие?
— Слышал.
— Вот и пишите так же.
— Но, может быть, вы напишете сами, а уж я… подпишу.
— Нет, нет. Я не располагаю временем для этого. Вот вам бумага, перо и чернила. Устраивайтесь на этой стороне стола и пишите. Как умеете. Да ведь не мне же вас учить. Вы — журналист. Уверен, что справитесь с этой работой. Побольше фактов, немного фантазии, и все будет в порядке…
Я положил перед собою лист бумаги и с тяжелым вздохом взялся за перо. Волею следователя я, как и многие другие до меня, был превращен, таким образом, в "Достоевского" и начал писать "Идиота".
Мое "идиотское творчество", под руководством Островерхова, продолжалось три дня. По его требованию я, прежде всего, признал все выдвинутые против меня обвинения и подтвердил показания моих сослуживцев, а затем дал волю фантазии. Никаких фактов не было и приходилось их выдумывать. Однако, излагая на бумаге вымышленные "факты", даты, преступления и злодеяния, я ни на секунду не забывал слов О-ва:
— Признавайся умно, так чтобы ты мог опровергнуть на суде свои показания…
Из-под моего пера ложились на бумагу, одна за другой, фантастические строчки, которые раньше никогда не приходили мне в голову:
"По заданию О-ва я подсчитал и сообщил ему количество танков и бронеавтомобилей в пятигорском моторизованном полку"…
"На минераловодском стекольном заводе мне удалось узнать размеры, форму, толщину и химический состав изготовляемых там небьющихся стекол для танков. Эти сведения, через работника редакции Р-на, я сообщил резиденту английской разведки"…
"Мне было поручено Т-ым собрать для польской разведки материалы о том, сколько в аэроклубах Северо-кавказского края подготовлено парашютистов и планеристов в 1936 году. Это поручение я выполнил… "
Каждое из подобных "признаний" я мог, конечно, опровергнуть на суде, но писать их было все же неприятно, страшно и противно. По временам Островерхов брал у меня исписанные листы бумаги, прочитывал их и говорил мне комплименты:
— Правильно, дорогой. Как раз то, что нам требуется. Отлично написано. Сразу чувствуется перо журналиста.
Он заставлял меня писать по 8–9 часов в сутки с утра, а на остальное время отпускал в камеру. В награду за мои "признания" угощал чаем с сахаром, папиросами, карамелью, а в полдень приказывал своему помощнику принести мне обед с кухни конвойного взвода. Обед был хороший: борщ с мясом, заправленная салом пшенная каша и кисель или компот.
Некоторые заключенные завидовали мне:
— Вы счастливец. Следствие по вашему делу подходит к концу. Самый тяжелый период сидения в тюрьме для вас уже пройденный этап. Мучить на конвейере вас уже не будут. А нам, бедным, долго еще страдать. Эх, как бы мы хотели быть на вашем месте.
— А преступления, в которых меня обвиняют? Ведь мне за них дадут немало. Думаю, что не меньше десяти лет, — говорил я им.
— Всем дадут. От концентрашки никто не избавится, — вздыхали они…
Свои показания я закончил так: