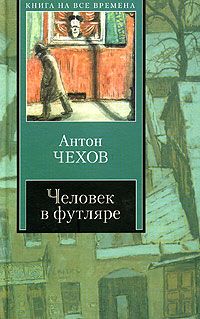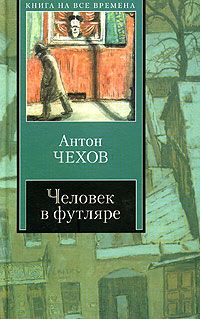Ольга Кучкина - Мальчики + девочки =
Все. Дождался. Поужинали.
Вскочил, в секунду собрал вещички и – никак не могу открыть их придурочный замок, богатства ихние охранять вставленный. Катька выскакивает в коридор и замирает, как в игре замри, не помогает, ничего, а в глазах слезы. Пойми их после этого, бабье. Что-то щелкнуло, замок сработал, я свободен. Очутился на темной, без прохожих, улице. Уже не злой, но и не добрый. Какой, не знаю, пустой какой-то. Все ихние цирлих-манирлих, как теть Тома говорит, встали поперек горла и стоят торчком. Дура, дура она и есть. Катька, я имею в виду. Как… забыл, зверьки такие бывают, окраску меняют в зависимости. На Пушке одна, за партой другая, балуемся – третья, а счас ваще. И мамашка фрукт. Из ванной выталкивала, руками бицепсы мне трогала и вся шелестела: смотри, какой ты большой стал. Как будто она помнила, какой я был маленький. Я не помню, а она, видите ли, помнит.
* * *Из прошлой жизни я отчетливо помню, как мы с мамой под Новый год ходили лампочки на елку покупать. Елочные игрушки у нас были, а лампочек не было, и я приставал к маме: купи да купи. И однажды она сказала: завтракай скорей, идем за лампочками. Я даже проглотил противную овсянку без звука, и мы пошли. Сели в метро на Краснопресненской, проехали остановку и вышли у Киевского вокзала, а там рынок и много-много лавок, в том числе с игрушками и электрическими гирляндами. В первой лавке продавец достает коробку и включает гирлянду в электросеть. Мама спрашивает: тебе нравится? А я замер, так было красиво. Мама интересуется, сколько платить, и достает кошелек. А продавец говорит: погодите, у меня еще есть. Открывает вторую коробку и включает вторую гирлянду, красивей той. Мама спрашивает: а эта сколько? А у продавца в руках третья коробка, и третья гирлянда светится покруче тех двух. Я дергаю маму за рукав, но у нее скучное лицо, и она скучным голосом говорит продавцу, что хочет заглянуть в другие лавки, просто, на всякий случай, чтоб сравнить, но потом вернется и купит ту, которая ребенку понравилась больше всех. Мы идем дальше, и везде повторяется: мы смотрим одно и то же и уходим. И я не понимаю, чего мы сравниваем. И тут мама говорит: что-то, сынок, я устала ходить-бродить, везде одинаковое, купим вот эту гирлянду и поедем домой. Я говорю: ты же обещала тому дяденьке! Я не могу ей сказать, что у дяденьки лампочки, которые уже приросли ко мне, и вернуться без них мне все равно, что вернуться без руки или ноги. А она говорит: да он давно забыл про нас, на рынке все все всем обещают. И я догадываюсь, что если она не выполнила обещания чужому дяде, то мне и подавно не выполнит. И я начинаю противно хныкать, и мать бросает мою руку и уходит вперед, и я хнычу еще противнее, и у меня текут сопли из носу, и мать возвращается с перекошенным лицом и бьет меня по щеке, а потом громко ревет сама. И вот всю жизнь мне почему-то жалко ее, как маленькую. Не себя маленького, а ее.
Джек заслонил эту историю. Взял и заслонил. И получилось, что собака важнее человека. Да, так получалось.
Домой идти не хотелось. Чего там делать, ни Джека, ни Соньки. Можно, правда, телек посмотреть. Или, на худой конец, книжку почитать. У меня лежали две: «Вынужденное признание» Ф. Незнанского и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя. Взял обе в библиотеке. Первую для себя, вторую в классе задали. Ежу понятно, что первую проглотил, про этого следака Турецкого, как он раскрывает заговор тайной организации, в которой состоят высшие чины нашей страны, но интересно, когда все уже знаешь, а раскручивается заново, и ты в тени, не участвуешь, а на деле и есть главный, потому что у тебя все карты на руках. Вторую книжку раза три собирался открыть, но так и не смог, ботва. Поэтому позвонил из автомата Чечевицыну и спросил, что он делает. Нарочно так спросил, чтоб он спросил, что я делаю, и позвал зайти к нему. Он спросил и позвал. Я никогда к нему не ходил. А он никогда не звал. По телефону я ему звонил по ерунде, и он мне звонил, и ко мне заходил по случаю, а я к нему нет. Надобности не было или он так поставил, а я не заметил, не знаю. Я был готов повесить трубку, когда сообразил, что он не сказал адреса, а без адреса я его не найду. Я закричал в трубку: постой, а куда заходить? Он рассказал. Я отправился.
* * *Я сказал, что Чечевицын жил в Москве, как все народы. Наврал. Не как все. Чечевицын жил в переулке на Старом Арбате. Но не в том дело, а в том, что он жил в доме с охраной. Просто так попасть к нему было невозможно. Я нажал кнопку, какой-то мужик спросил, к кому. Я ответил. Он еще спросил: а вас ждут? Я повторил для большей убедительности два раза: ждут-ждут. Мужик говорит: а как вас представить? Я чуть не упал. Топтаться на морозе, пока они соизволят все выспросить, а может, и проверить. Я сказал: Король, представьте меня Королем. Сперва ничего, затем что-то звякнуло, и голос сказал: открывайте, ваше величество. Я нажал на тяжелую дверь, медью окованную, и вошел в шикарное помещение: колонны, мрамор, на ступеньках ковер, зажатый такими блестящими металлическими штуками, сбоку столик, на нем лампа под абажуром, телефон, компьютер, и сидит военный, похоже, что вооруженный. Ну, не военный, а военизированный, как все они, охранники. Говорит, не хмуро, а с улыбочкой: третий этаж, квартира семь, лифт справа. Я говорю: я пешком. Взлетел на третий этаж, только меня и видели. А уж там распахнута дверь, и Чечевицын на пороге собственной персоной.
– Чего не на лифте? – спрашивает.
– Замерз, согреться, – отвечаю.
– Заходи, – зовет, – у нас тепло.
Захожу. Ёлы-палы. Куда там Катькиной квартире, дыра по сравнению. А если Катькина – дыра, что говорить о нашей с Сонькой. Фавела. Если я правильно помню из кино типа «Генералы песчаных карьеров». Комнаты я после сосчитал. Семь. Если с кухней и ванной. С уборной восемь. Уборная такая, что ее надо считать отдельно. Я как поразился, так не счел нужным притворяться. Ходил, разинув варежку, заглядывал в двери, осматривал все эти покои издали, но все равно. Спальня отдельно, гостиная отдельно, рабочий кабинет, другая спальня. В общем, опять кино, но не про фавелы, а «Как выиграть миллион». Не, «Как выиграть миллион» – передача с хохмачом Галкиным, а фильм – «Как украсть миллион». Ну неважно.
Я говорю:
– Чечевицын, это ж уписаться, как ты живешь, и хочешь сказать, что один и есть владелец?
Он криво усмехается:
– Вообще-то нет. Вообще мы с отцом вдвоем живем.
– Вдвоем? – удивляюсь я.
– Ага, – кивает Чечевица. – Видимся редко. У каждого свое расписание.
– Как это? – спрашиваю.
– У него свои дела, у меня свои. Пересекаемся не часто. Можем поужинать вместе или позавтракать. А дальше разбегаемся в разные стороны.
– Ни фига себе, – я провел кулаком под носом, с мороза оттаяло. – И в какую сторону сей момент побежал?
– Он редко сообщает. Каждый раз сообщать – я не запомню.
– Ночевать приходит?
– Как правило, да. Как исключение, нет.
Ничего похожего я от Чечевицы не ожидал. Совсем другой паренек, чем на Пушке. Чего он там забыл? Пока обменивались вопросами-ответами, он достал бутылку вискаря, я бутылочку быстро узнал, по фильму «Крутой Уокер», плесканул в толстые стаканы, как в «Уокере», я едва успел ко рту поднести опрокинуть, как Чечевица поднял вверх палец, предупреждая:
– По глотку.
А то я не видел. Видел. В фильмах всегда по глотку делают. Мы не сели, а упали в мягкие кресла. Чечевица взял со стеклянной стойки пульт, врубил телек, не такой, как у нас, а плоский, с большим экраном, и мы стали тянуть виски по глотку, и я точно почувствовал себя как в кино, а не в жизни. Меня сразу развезло, с маленьких глоточков, и стало так здорово, как никогда не бывало. Показывали программу новостей, и там мужик в тюрьме, то есть не в тюрьме, а за решеткой в зале суда, хорошо выбритый, коротко стриженный, с яркими такими белыми зубами и в тонких очочках. Чечевица спрашивает:
– Знаешь, кто такой?
– Не-а, – отвечаю. – А кто?
– Неважно, – говорит Чечевица и тут же раскалывается: – Знакомый отца. Один раз сюда приходил.
– Дела, – говорю.
И вдруг меня начинает нести.
– Это выходит, – размышляю я вслух, – что они и твоего отца могут загрести? Как сообщника? Тогда понятно, почему он ночевать не приходит.
– Да что тебе может быть понятно! – ни с того ни с сего свирепеет Чечевица. – Никому ничего не понятно, а ему понятно!
Я его ни разу настолько свирепым не видел. Покладистый же ж малый. Я говорю ему нарочно по-доброму, чтоб не думал, что я так уж на стороне закона, а не людей:
– Сообщники – это не всегда плохо. Может быть, наоборот, хорошо. Мы же тоже сообщники, ты, я, Катька и Маня, в войне, например, с Генкой. Не были б сообщники, кто-то мог бы заложить, или еще как-то предать, встать, например, на Генкину сторону. А у нас все крепко. Значит, хорошо.
Это я так длинно рассуждал оттого, что меня развезло. Обычно я думаю и говорю короче.
– Да не в том дело, – устало говорит Чечевица. – Человек страной может управлять, а его в тюрягу засунули.