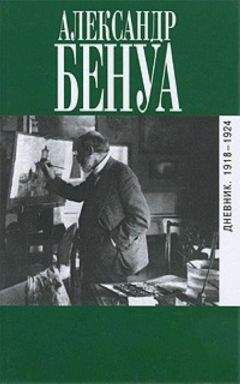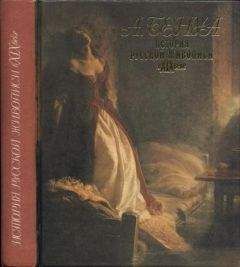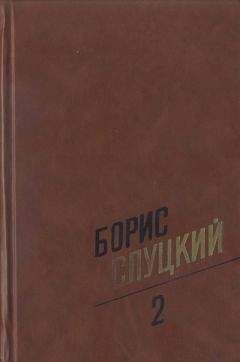Борис Носик - С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом
Маруся Волкова и удалой денщик Анрепа стали со временем первыми ассистентами мозаичиста…
С отъездом Анрепа в Англию его образ занимал все большее место в стихах Ахматовой. И чем дальше, тем горше звучали ее обвинения беглецу, изменнику, отступнику. Сперва это были стихи о простой любовной измене, но мало-помалу они переросли в стихи религиозно-патриотические, обличающие «безбожную» Европу, а заодно и всех «отступников»-эмигрантов, «предавших» родину, революцию, молитвы и грядущие русские страдания… Очень знамениты стали эти патриотические стихи:
Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну.
Ниши песни и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Фантазия поэтессы разыгрывалась, плач эмигранта чудился ей под собственным окном:
… Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под окошком высоким моим?
Дальше — больше. В апреле 1918 г. в «Воле России» было напечатано с посвящением Аанрепу еще одно знаменитое ахматовское стихотворение, впрочем, пока еще без последних четырех строк (добавленные поэтессой позднее): эти две отчаянные строфы были напечатаны впервые лишь в 1967 г., да и то в Мюнхене):
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и покойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Придуманный поэтессой «голос», который звал Ахматову оставить Россию, это, по верному наблюдению историка О. Казниной, «внутреннее сомнение и соблазн, который она отвергла как временную слабость». И ни в чем (кроме очередных любовных увлечение — Б.Н.) не повинный Анреп «был символом этого соблазна».
Остается с печалью добавить, что «внутреннее сомнение», «временная слабость» и «соблазн», вероятно, не раз возвращались в тяжкие минуты жизни. Скончался Блок, которого не выпустили за границу для лечения, расстреляли ни в чем не повинного Гумилева, и раз, и два арестовали их сына, потом гноили в лагерях… Очень скоро Ахматову запрещено было печатать: на вершине славы она замолчала… Боже, сколько боли, муки и страхов. Пытаясь вызволить сына из-за колючей проволоки, она писала какие-то письма тирану, какие-то гимны, была на время прощена, приобщена к мощному патриотическому хору (таких голосов не хватало). Может, и сына б ей отдали, но однажды, через двадцать лет осторожности и страха, некий человек из «безбожного» Лондона (да еще из британского консульства в Питере) вдруг явился к ней домой и показался ей Гостем из Будущего. Его визит и их единственная светская беседа дорого обошлись бедной женщине: на весь мир прозвучавший полицейский окрик Жданова и еще чуть не десять лет унизительного смертельного страха…
Еще позднее, в ахматовской «Поэме без героя» лирическая героиня пытается напомнить этому Гостю из Будущего (ставшему одним из персонажей поэмы) о том самом «голосе» из прославленной строки («Мне голос был…»), но Гость в ответ лишь укоряет бедную женщину вполне цинично: «У тебя мнимые воспоминания».
Нет, не было голоса, и никогда не плакал Анреп под ее окнами… А чем же он был занят, «отступник» и изменщик Анреп?
У него полвека была мастерская на бульваре Араго в Париже, которой больше тридцати лет (с 1931 г.) заправлял его помощник, уроженец Николаева, русский грек Леонидас Инглези, который учился когда-то в московской школе живописи и в мастерской Юона, был гласным городской Думы в родном Николаеве, радел о создании в этом городе художественного музея, был изгнан из родного дома, но не убит — сумел выехать в Париж в 1928 г. Анреп работал в этой своей мастерской еще с 1926 г., но главные его заказчики были в Англии и главным трудом жизни были полсотни мозаичных напольных картин для лондонской Национальной галереи. Былой друг Стеллецкого, Борис Анреп продолжал традиции монументальной византийской мозаики. В символических фигурах его аллегорий («Труды жизни», «Современные добродетели», «Пробуждение муз» и др.) можно узнать У. Черчилля, Э. Резерфорда, Т. С. Элиота, в аллегории «Сострадание» — Анну Ахматову, а в мозаике «Я здесь лежу» увидеть даже будущую могилу самого художника.
Знаменитыми стали и напольные мозаики Анрепа для Английского банка в Лондоне, его мозаичное панно для лондонской греческой церкви, мозаики для собора в ирландском Маллингере, для Вестминстерского собора… Много десятилетий напряженной творческой, светской, писательской, мужской жизни… Может быть, не вполне безмятежной, не лишенной сомнений и угрызений совести… Недаром же, в 1965 г., когда стало известно, что пережившая все лишения, муки и страхи его мимолетная любовь, великая Анна Ахматова приезжает в Англию по приглашению Оксфордского университета, Борис Анреп сбежал в Париж под тем хлипким предлогом, что пора было там ликвидировать старую добрую парижскую мастерскую на бульваре Араго. Художнику ведь и самому было уже за восемьдесят… Но 76-летняя Ахматова проявила упорство в своих поисках прошлого, разыскала его номер в парижской телефонной книге и добилась свидания — первого их свидания за полвека. Он был одним из тех немногих, кто уцелел в их кругу…
Они встретились, два очень немолодых человека, ничего. Впрочем, не забывших…
Беседа не клеилась. Она пыталась напомнить ему о 13-м февраля!916 г., когда она передала ему перстень, который где-то давно пропал. Пыталась оживить чувства. (Может, в интересах безжалостной своей повелительницы — музы… А может, этого требовала былая любовь и былая женская обида…)
Анреп покрылся холодным потом: ну да, она намекает на кольцо… Но что там могло уцелеть — в суете жизни, в тысяче встреч, сотне любовей… В разбомбленном Хэмпстеде, в разбомбленном Лондоне, в нетронутом среди чужих бед и страданий, легкомысленном и чужом для них многолюдном Париже…
Позднее Анреп написал воспоминания об Анне, которые он просил напечатать после его смерти (она не заставила себя ждать). В них он кается, говорит о своей подлости и трусости, но все же не решается говорить о главном — говорить о жизненной неудаче или грехе. Он цепляется за щадящее мелочные проступки этой жизни, вспоминает о пропавшем кольце:
«Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес ей еще бо́льший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен… Я ищу себе оправдания… я его не нахожу.
5 марта 1966 г. А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно».
Он подписал свою рукопись, а ниже приписал другими чернилами ее стихи 1917 г., — точно отыскав у нее самой оправдание для своей небрежности:
Это просто, это ясно,
Это всякому понятно —
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда…
Через три года после их последней встречи, известный в Англии русский художник-мозаичист отправился на последний суд и сам стал «литературным феноменом», может, даже в большей степени, чем феноменом искусства. Связанные с ним три с лишним десятка стихов самой знаменитой русской поэтессы XX века и одни роман известного английского романиста могли бы обессмертить любого художника, если б за спиной у него не было вдобавок столь знаменитых собственных мозаичных панно…
Магия красок и вкус допетровской Руси
Если вы считаете, что бюсты художника-поэта Бориса Анрепа и членов его семьи увели нас слишком далеко от их автора Дмитрия Стеллецкого, мы напомним, что по наблюдению Бенуа, Стеллецкий был «в собственном представлении … именно скульптор». Бенуа объясняет эту самооценку молодого Стеллецкого решительно ошибочной, ибо уже в ранней «скульптуре Стеллецкого стал сказываться живописец. Началось это в тот момент, когда он принялся раскрашивать свои фигуры или прислонять их к стене».
Колористом-живописцем в первую очередь считает Стеллецкого и пристально наблюдавший его стенопись, его книжную графику, и главное его знаменитые листы к «Слову о полку Игореве» искусствовед Сергей Маковский:
«Тут «магия» — и от цвета. Техника, которая применялась Стеллецким, — ярко-красочная гуашь — побуждала его к «цветному мышлению».
Это последнее относится к рисункам Стеллецкого, иллюстрирующим знаменитейшее произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», но дать подробное описание этих листов (которые многие считают шедевром Стеллецкого) Маковский не берется:
«Нельзя описать графику, столь насыщенную цветом, символикой цвета: она еще иррациональнее, чем графика blanc et noir».
Маковский признает, что смысл изображения на листах только намечен, а главное здесь — «декоративное заполнение бумажного листа», которое «доведено местами почти до орнамента».