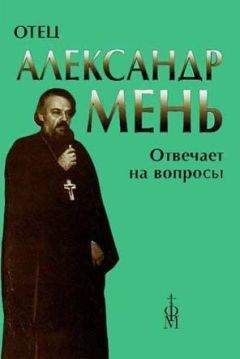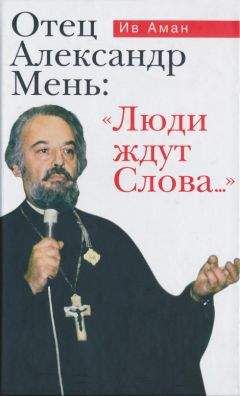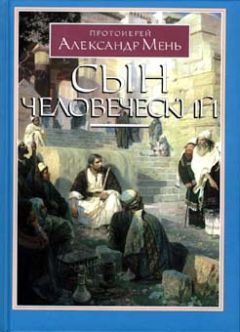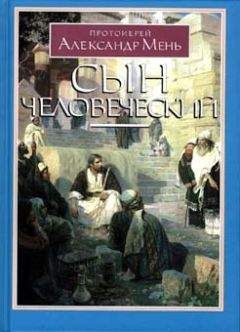Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
Мамардашвили, как и Сократ, — представитель импровизационной, речевой культуры, где нет заданности, предвзятости, где истина отыскивается в процессе самой речи. Главное для него — движение мысли, мысли, направленной на поиск истины. Что он хотел сказать этой фразой: «Как мне об этом «сейчас» (как некоем состоянии и присутствии мира в этот момент в душе человека)… узнать сейчас?»
Если говорить кратко, он подводил слушателей к тому, что Сократ открыл понятия и дал определение понятий. Но не это главное. Для него сократовские понятия вовсе не содержат в себе абстрацию некоторого признака, свойственного наблюдаемым предметам. Скажем, «понятие стола указывает на признак, свойственный всем столам». То есть это некое родовое понятие, позволяющее отличать его от конкретных предметов. Нет, он настаивал на том, что в диалогах Сократа проступает нечто иное, и это «нечто» нельзя основать на видимом нами эмпирическом материале.
То есть когда Сократ говорит, например, о мужестве, он вовсе не собирается давать и не дает точного определения мужества. Для него мужество это этическая норма или воинская добродетель, доблесть, и эта норма не может быть доказана на основании чувственных состояний и эмпирических аргументов. Эта норма для Сократа коренится «в особом, невидимом порядке или упорядоченности души. Иными словами, когда Сократу приходится самому отвечать на вопрос, что же такое мужество, то он отвечает следующее: это не это и не это, и вообще — никакое не состояние, а порядок души. А что такое порядок души? Этим не сформулируешь, что такое мужество» или, скажем, добро, потому что «добро не есть желание добра, не есть наша добрая или честная настроенность в смысле психологически наблюдаемого состояния. Эти состояния ничего не значат, они не самодостаточны».
«Впервые понимание того, что мое состояние не самодостаточно, — заметил Мамардашвили, — может появиться лишь под знаком этой философской формулы: я знаю, что я ничего не знаю. Лишь этой формулой Сократа я отменяю мое самодовольство. То есть мою удовлетворенность некоторыми моими же состояниями, которые полагаются самодостаточными. Поэтому философ и говорит: такие состояния не самодостаточны. За нашими эмпирическими состояниями есть еще нечто другое — невидимое», нематериальное, невещественное. Мамардашвили нельзя назвать религиозным философом, но он утверждал, что есть универсальная гармония, есть «вечное настояшее», и оно символизировано прежде всего символами, полученными из религиозного опыта.
И тут я возвращаюсь к отцу Александру Меню, потому что мысль Мераба Мамардашвили фактически иллюстрирует, подтверждает мысль этого великого пастыря и богослова о том, что большое знание — смиренно, ибо оно включает в себя знание о том, что основы наших знаний коренятся в надприродном, невидимом мире.
«…Все мысли Сократа, — писал отец Александр, — были направлены на сущность человеческой жизни… что такое сам человек? Для чего он живет и как он должен жить? Вот вопросы, которые рано стали занимать Сократа. В этом он был истинным продолжателем афинских трагиков с их интересом к человеку. Ему чуждо было поверхностное любопытство, побуждавшее его товарищей гоняться за новомодными идеями. Философия для него являлась не забавой ума, а своего рода священнодействием. Он исходил из мысли, что истина требует благоговейного и любовного подхода, ибо она не отвлеченный предмет, а нечто непосредственно связанное с жизнью и добродетелью».
Люди, подчеркивал отец Александр, — вот цель, страсть, привязанность Сократа. В отличие от ученых, отгородившихся от жизни, или замкнувшегося в себе Гераклита, он любил людей, постоянно искал общения, буквально не мог жить без него. Этот грек не желал больше искать мудрости у природы, как его предшественники. Она обещала много — дала мало. Истину нужно высматривать в другом месте.
Для Сократа самопознание было тесно связано с самовоспитанием. Он не отделял его от истинной мудрости: подчинить страсти, подчинить низшую природу разуму означало в его глазах открыть в себе высшее начало.
«Мы помним, — говорил отец Александр, — что человек искал Бога в природе, потом стал полностью отрицать природу. Сократ пытался найти какую‑то среднюю линию, чтобы связать две реальности, но делал это строго логическим, рациональным путем. По существу, начало нашей логики, рациональной логики, к которой мы привыкли, идет от Сократа. Поэтому Ницше проклинал его как человека, загубившего дух Греции. Поэтому русский философ Лев Шестов, иррационалист, считал появление Сократа грехопадением античной мысли».
Напомню, что Ницше сформулировал свою антисократовскую позицию еще в ранней работе, «Рождение трагедии из духа музыки», где он писал, что есть два божества искусства — Аполлон и Дионис и, соответственно, есть два начала — аполлоническое и дионисическое. Аполлоническое начало, как его понимал Ницше, — ясное, радостное, спокойное, рациональное, а по сути — призрачное, иллюзорное. Дионисическое начало — экстатическое, пьянящее, наркотическое, бессознательное, мистическое, прорывающееся из самой природы, ведущее к мощному подъему всех способностей человека. Высшее достижение греческого гения, по мнению Ницше, — Гомер, Эсхил, Фидий, Перикл, Пифия и Дионис. Дух музыки, рождающий трагедию и лирическую поэзию, — это воплощение дионисического начала.
Так вот, Сократ будто бы умертвил дионисическое начало и вместе с ним — высшее художественное создание эллинской цивилизации, ее трагедию. Этот чудовищный ум, писал Ницше, со своей всеподавляющей логикой и отрицанием инстинктов, обратив свое огромное циклопическое око на трагедию, «око, в котором никогда не сверкало прекрасное безумие художнического вдохновения», он просто убил греческую трагедию, изгнал из нее дух музыки и своей деспотической логикой, своей ненасытной жаждой оптимистического познания погубил дионисическое начало и трагическое мировоззрение. К тому же он предельно рационализировал аполлоническое начало, которое впоследствии выродилось в логический схематизм. По сути дела Ницше, обличая Сократа, выступил как пламенный защитник язычества.
Как бы отвечая Ницше, Александр Мень заметил: «…ясная мысль и логика — это отнюдь не враги человека, это инструмент великий и прекрасный, только надо знать, где и когда им уместно пользоваться. Сократ отнюдь не делал его универсальным инструментом. Он часто говорил: «Я ощущаю в себе с юных лет не только голос рассудка, но и голос какого‑то существа». Он называл это существо «даймонион»». «Даймонион» — от слова «даймон» — демон. Но в античное время слово «демон» не имело негативного значения, какое оно приобрело впоследствии.
«Даймон» означал тогда дух или гений. И отец Александр пояснял: «На самом деле «даймонион» — не демон, а божество». И добавлял: «Так что не думайте, что речь идет о сатанинском начале. Это был некий дух, говоривший в нем. «Никогда, — настаивал Сократ, — этот «даймонион» не подсказывал мне, что я должен делать, но он меня предупреждал, чего я не должен делать»». Вывод отца Александра вполне обоснован: «И у этого рационалиста, человека, искавшего истину путем рассудка, были моменты удивительного созерцания».
Эти моменты описывал Платон, и я не буду на них останавливаться. Скажу только, что отец Александр был уверен, что высшее начало проявляется и в Аполлоне, и в Дионисе, то есть и в просветленном разуме, и в пламенеющей стихии.
Доказывая этот тезис, он ссылался на слова русского религиозного мыслителя Георгия Федотова: «Не желая уступать демонам (тут «демонам» в современном понимании. — В. И.) ни аполлонического Сократа, ни дионисического Эсхила, мы, христиане, можем дать истинные имена божественным силам, действовавшим, и по апостолу Павлу, в дохристианской культуре. Это имена Логоса и Духа. Одно знаменует порядок, стройность, гармонию, другое — вдохновение, восторг, творческий порыв. Оба начала неизбежно присутствуют во всяком деле культуры… Но начало Духа преобладает в художественном творчестве, как начало Логоса — в научном познании».
Отец Александр писал, что в суждениях критиков Сократа, таких, как Ницше, Шестов, Кьеркегор, полагавших, что он отравил возвышенный эллинский дух рационализмом, в этих суждениях есть много верного, в частности, «диалектический», критический метод Сократа «действительно укреплял притязания обыденной логики на господство в высших областях знания. Тем не менее мы не имеем права отделять учение Сократа от него самого. Взятый же целиком, во всей своей жизни и со всеми оттенками мышления, мудрец слишком сложен, чтобы его можно было втиснуть в узкие рамки рационализма».
Сократа всегда окружала молодежь, которую восхищали и глубина его мысли, и его ирония, направленная против самоуверенного догматизма и невежества, и его жизнелюбие, простота, цельность натуры, и его таинственное обаяние. Сократ, со своей стороны, был открыт талантливым афинским юношам и разговаривал с ними на равных. Он был умелым воспитателем, но не любил выставлять себя учителем — считал себя скорее искателем, учеником. Беседуя с молодыми, Сократ убеждал их заботиться прежде всего о своей душе, о том, чтобы жить жизнью, достойной человека, а для этого — обогащать себя знанием, ибо без него не бывает добродетели.