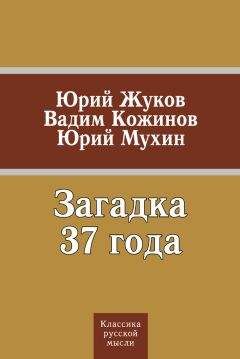Станислав Куняев - Жрецы и жертвы Холокоста. Кровавые язвы мировой истории
Стихи принимались на «ура» и в ресторане, и на улице, и в уютной квартире Фейгиных.
А утром в мой гостиничный номер стучался отпрыск знатнейшего грузинского рода Тархан-Моурави, узкоплечий, совершенно спившийся, но все равно знаменитый молодой человек с трясущейся головой, покрытой местами редким пухом, и мы шли в хашную (где посетители с почтением вставали при его появлении) и восстанавливали расстраченные в ночных кутежах силы при помощи граненой стопки чачи и янтарного хаши, колыхавшегося в грубых глиняных мисках («пейте вдоволь, пейте двое — одному не надо пить!»).
Пить кофе мы заходили к Додику Давыдову — блистательному фотохудожнику, сделавшему несколько моих портретов, которыми потом я оформлял московские издания своих книг. Меланхоличный Додик владел одной комнатой, но не где-нибудь, а на проспекте Руставели в громадной коммуналке старинного дома. Комната была одновременно его кухней, его спальней, его кабинетом и его фотоателье. Окна комнаты и днем и ночью были занавешены плотными темно-красными одеялами. В блаженной полутьме Додик чудодействовал при свете красного фонаря над своими ванночками, в которых плавали, постепенно обретая жизнь, то лики заезжих знаменитостей, то изображения грузинских проституток в таких позах, которые не снились ни Ренуару, ни Тулуз-Лотреку. Додик заманивал их к себе, чтобы снять обнаженную натуру и доказать всему миру, что их изображения в его исполнении есть вершина подобного жанра.
* * *Мой младший друг Сергей Алиханов, с которым я познакомился в Тбилиси полвека тому назад, написал печальную и саркастическую поэму «Плач по Мазурину», который был колоритнейшей фигурой тбилисской жизни шестидесятых годов.
Одно такое произведение существует в русской поэзии: «Плач по Сергею Есенину» Николая Клюева. Не знаю, читал ли Алиханов клюевский шедевр, но в любом случае он сделал все, может быть, сам того не понимая, чтобы лишний раз подтвердить, что рано или поздно трагическая суть одной эпохи отзовется в следующей неизбежным фарсом:
Вы летчик и боксер,
любовник балерины,
защитник, так сказать,
прохожих и витрин.
Вас выпестовал сброд родного Воронцова.
Все верили:
из Вас получится бандит.
Все думали:
почет и власть Вам предстоит,
но погубило Вас
бессмысленное слово.
О поэте и художнике Гоге Мазурине рассказывали, что после войны он на каком-то боксерском турнире местного масштаба встретился с великим бок сером тех времен Николаем Королевым. Но так как их в тяжелом весе было лишь двое, то, когда они оба вышли на ринг, Мазурин, сделав пару движений перчатками, рухнул на пол перед чемпионом Советского Союза, который не задел его ни единым взмахом. Судья, как и положено, довел счет до десяти, и в результате Мазурин занял в тяжелом весе второе место после великого Королева, получил почетную грамоту, какой-то приз и, что самое главное — долгие годы ореол этой славы мерцал над его головой.
А что касается строки Алиханова «любовник балерин», то мазуринский роман с немолодой, но знаменитой балериной Верой Цигнадзе протекал на моих глазах, когда она приходила в гости к Фейгиным со своим «бойфрендом» и молчаливо проводила вечера за столом, выбирая из вазы тонкими пальцами спелые виноградины и выслушивая тосты в свою честь.
Она приглашала нас в грузинский театр оперы и балета, и я в конце концов написал по просьбе Мазурина стихотворенье, прославляющее Веру в роковой роли несчастной Жизели.
Танцуй, Жизель! Танцуй, пока с тобою
любимый твой! Очерчивай круги,
взлетай над ошарашенной толпою
физическим законам вопреки.
Последний круг. Не будет поворота
обратно в мир. Уносит навсегда
тебя, Жизель, предчувствие полета
в пространство,
в зал,
на сцену,
в никуда.
Кроме «бессмысленного слова» и романов с балеринами Гоги Мазурин увлекся еще одним пагубным проектом: он решил стать знаменитым живописцем и нарисовал темперой на картоне несколько десятков картин, разоблачающих сталинские преступления. Пирамиды черепов, наподобие верещагинских, колонны арестантов, шествующих из лагерных ворот, вышки с охранниками, собаки-овчарки на снегу, тулупы конвойных — со всем этим модным джентльменским набором плакатных ужасов Мазурин отправился в Москву и даже добился выставки то ли в Доме литераторов, то ли на Кузнецком мосту. О выставке что-то лестное было сказано по вражескому «Голосу Америки». Выставку посетил сам Константин Симонов. Шестикратный лауреат Сталинской премии прошелся по ней с трубкой в зубах, одобрительно покачал головой и исчез. На этом попытка Мазурина ухватить за хвост жар-птицу славы закончилась. Опечаленный Мазурин вернулся со своими картонками в родную Грузию. Я встретил его в Москве перед отъездом сильно пьяного в баре Дома литераторов. Крупный, телесный, с лицом и подбородком, как будто вырубленными из смуглого камня, с гривой черных, жестких, словно конская грива, волос, с манерами неутомимого брачного афериста, он захотел в хрущевскую эпоху задолго до Тенгиза Абуладзе с его «Покаянием» разыграть антисталинскую карту. Но столько тогда появилось игроков более талантливых, более изощренных, нежели этот тифлисский провинциал! Недоумение было написано на его лице: как же так? Вроде приняла его либеральная Москва с распростертыми объятьями и вдруг охладела? Может быть, потому, что картон — материал не для вечности, и писать на нем — все равно, что на заборе?
Мы выпили по рюмке и попрощались без лишних слов, я не стал ему говорить, что его «окна РОСТА» всегда были мне не по душе. Зачем сыпать соль на раны?
А все-таки человек он был незаурядный, послевоенный, простонародный. И не случайно его облик всплыл сегодня в моей стариковской памяти. Может быть, мы с Сергеем Алихановым последние в этом мире, кто помнит о том, что в наше время жил на белом свете обаятельный enfant terrible, тифлисский кинто, незадачливый поэт и художник Гоги Мазурин. В алихановском «Плаче» его выставочная эпопея изображена таким образом:
Мазурин! Два часа американский голос
угрюмую Россию просвещал,
с глушилками его волна боролась,
картинам Вашим на сыром картоне
он славу и бесстрашье предвещал.
И Вы свернули в трубочки картины
и канули из выспренной Москвы.
Да, многих прокормило ремесло.
Поэзия загнала в гроб немногих.
К числу забытых, жалких и убогих
принадлежал Мазурин. Но сожгло
его нутро отнюдь не вдохновенье.
Он бросил в воды мутные забвенья
две книжки неотесанных стихов.
В них изобилье очень сильных слов.
Он там кричал, в экстаз входил и в раж
и к вечности стремился приобщиться,
а после долго бегал к продавщицам,
скупая в магазинах весь тираж.
Каюсь, что я не читал этих книжек, потому что мы с ним после его неудавшейся попытки завоевать Москву больше не встречались. И что потом стало с его картинами на «сыром картоне», я не знаю. И не знаю, где и когда он был похоронен после своего последнего инфаркта. Но об этом знает Сергей Алиханов.
Мазурин!
Где-то там под зеленью густой
под праведной, под теплою землей
лежите с миром Вы.
Крест осеняет Вас,
корнями тянутся к Вам сильные растенья,
вас посещало в жизни вдохновенье,
Бог миловал, но все-таки не спас.
Последняя строчка, видимо, навеяна Алиханову гениальной лермонтовской эпитафией «На смерть князя Одоевского», умершего в Абхазии:
«но свет не пощадил, но Бог не спас…»
«Я человек холодного ума», — писал о себе Алиханов, юный очевидец тифлисской жизни тех лет. И он был прав.
* * *Почти все мои новые тогдашние друзья из грузинского еврейства работали либо в издательстве «Заря Востока», либо в «Мерани».
Впрочем это была традиция, сложившаяся при нэпе, которую Сергей Есенин, гостивший в Тифлисе за год до своей смерти, даже изобразил в шуточном стихотворенье, сочиненном после нелегких, но все-таки увенчавшихся успехом усилий по изъятию из кассы издательства «Заря Востока» гонорара, столь необходимого поэту для существования в разоренном гражданскими распрями городе: