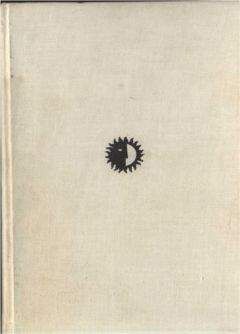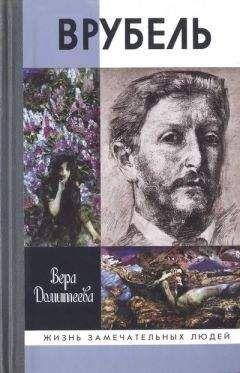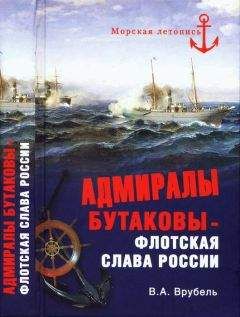Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
И.В. – Г.: А как ты считаешь, правомочен ли вообще этот принцип – отделить Восточную Европу от Центральной и соединить в одной выставке или в одном принципе работ? Возможно ли такое соединение с общеевропейским искусством? Или, может быть, оно уже произошло – и тогда, под чьим влиянием?
И.Б.: Я не настолько хорошо знаю ситуацию в Восточной Европе, но мне кажется, что уже сегодня идет процесс реинтеграции; соответственно, под углом этой реинтеграции смотрятся и события, которые происходили в искусстве середины или начала века, до советской оккупации, до Второй мировой войны. Что касается русской части, то мне этот процесс очень понятен. Другое дело, что он такой противоречивый, и совершенно очевидно, что только определенные художественные явления могут реально смотреться или прочитываться в таком международном контексте. Вот пресловутый московский концептуализм и то, что ему предшествовало: он был тем хорош и тем интересен, что он сумел интегрироваться и художники, которых мы встретили здесь, на вернисаже в Бонне, являются примерами этой удачной интеграции. Такие художники, как Кабаков, Комар, Меламид, Гробман и прочие, здесь присутствующие, сумели найти тот визуальный язык, который позволил западному зрителю все это воспринять, различить и включить достаточно органично в этот самый международный контекст. Дело не в Западе, а в том, что существует язык современного искусства и русские, как это ни парадоксально, даже в своей полной изоляции, в 60-е – 70-е годы, все-таки научились этому языку, овладели им, что само по себе факт, достаточно удивительный. И это поколение, судя даже по этой выставке, вполне в контексте. Но опять-таки, наиболее заметны все-таки те художники, которые работают на Западе. А те – даже успешные и хорошие художники, которые начинали в конце 70-х – начале 80-х, – кто остался в России, находятся в очень сложном положении. Они, как ни странно, все еще не могут «раскрутиться». Хотя они, собственно, уже классики, музейные художники, а вот работать в собственной стране им оказалось довольно сложно. Не знаю, может быть, в силу отсутствия художественной структуры или других каких-то причин, возможно, морально-психологических, но жесткой мотивации я у них не обнаружил. Я говорю о них, потому что они мне ближе и понятнее, восточноевропейскую ситуацию я знаю хуже. Но то, что я знаю косвенно, свидетельствует примерно о том же самом.
Месяц назад я находился в Вене на семинаре кураторов из Восточной Европы, и я понял, что ситуация, в общем, очень похожая. Но они в еще большей степени – нет, скажем так: они до сих пор – ощущают на себе… ощущают свое положение провинции в отношении Центральной и Западной Европы. Получилось так, что на этом семинаре в Вене присутствовали страны, которые входили раньше в Австро-Венгерскую империю. Как ты знаешь, даже Западная Украина в нее входила, часть Польши, естественно, Чехия, Словакия, Венгрия, часть Румынии и Югославии. Все эти люди там сидели, и я понимал, что все, кроме меня – я был из Москвы, – это империя, это что-то общее, и я, на самом деле, там немножко чужой. И то, что сейчас очень многие венские галереи открывают филиалы в Праге и Будапеште, свидетельствует о том же. Вена, по-моему, хочет стать центром этого региона. И с очень большой опаской смотрит на все эти процессы, и вообще на все отношения между Москвой и Берлином. Россия, которая мостом нависла над Центральной Европой, их буквально пугает. То есть, мне кажется, что возникает совершенно новая культурная геополитика, она именно сейчас формируется. И эта выставка принципиальна в этом отношении. Нельзя искусственно отделять Запад от Востока, это создает совершенно ложную перспективу. А вот какие возникают конкретные констелляции, отношения – за этим просто интересно наблюдать. Устойчивое отношение – я просто вижу, – это Австрия и, допустим, Чехия, Словакия, Венгрия. Это очень определенная система отношений, и вполне можно говорить об этом контексте. Они очень быстро вспомнили свое общее прошлое и с большой охотой бросаются друг другу в объятия. И Вена сейчас стоит перед вопросом: стоит ли ей действительно стать этим новым центром? Вообще-то Вена, как я выяснил, посмотрев на карту, находится восточнее Праги, а Прага – западнее; то есть Вене сам Бог велел стать этим новым центром. И по мере того, как будет распадаться наша страна, Вена будет притягивать к себе. Она готова, она может много сделать для всего региона в отношении культурных контактов. И она уже пытается это делать, хотя одновременно у них все-таки есть комплекс маленькой страны, поэтому они и хотят, и опасаются этой своей чрезмерной экспансии. Но тем не менее процесс будет происходить. А в России, мне кажется, ситуация стабилизируется, и мы должны будем снова обратить внимание на своих ближайших соседей – я имею в виду Прибалтику и Восточную Европу. Первое время после перестройки, конечно, никакого желания общаться с их стороны не было, поскольку все смотрели на Запад, как и мы. И еще долгое время, пока процесс интеграции не завершится – а это долгие, долгие годы, – конечно, все внимание и у нас, и у восточных европейцев будет направлено на Германию, Францию, Америку, далее – везде. Но в конце концов это все-таки окажется на периферии наших общих интересов. Потому что контакты уже стали гораздо интенсивнее и появился даже некоторый общий негативизм относительно Запада в целом – что они, разумеется, нас плохо понимают, а у нас общие проблемы, мы понимаем друг друга очень хорошо, и надо бы дружить. Я вот сам сейчас тоже вовлечен в такие инициативы, проекты и программы, в основном с чехами, словаками, венграми, поляками, с Югославией – в основном со Словенией. То есть мы поняли, что на самом деле мы вполне нормальные люди, и у нас есть общие интересы и общие проблемы, и главное – самое главное, что мне хотелось бы отметить особо: это что опыт жизни в условиях тоталитарного режима имеет ведь не только негативный аспект, но и позитивный. Это такой уникальный опыт, который стоит как-то сохранить и как-то его адекватно выразить. Потому что никто никогда – мы надеемся – в обозримое время такого не переживет, а мы-то знаем, и наше поколение тоже знает; и мы считаем, что большие достижения и результаты, которые были получены усилиями даже московского художественного круга, неофициального, андерграундного, – это уникальная культурно-историческая ситуация, и она стоит того, чтобы ее достаточно подробно описать. И это нас объединяет с Восточной Европой.
Сейчас, когда прошел первый шок в отношении России и русского языка, они говорят: а что, надо это понять, надо вспомнить, надо описать это и в текстах, и в визуальных образах. Это чувство общности – совершенно новое ощущение, и это касается даже языка. На этом семинаре, где была вся Восточная Европа, все говорили по-английски. А потом вдруг сообразили, что наши языки очень близки, и мы все друг друга поняли бы, даже если бы стали говорить по-русски. И в конце концов все стали говорить по-русски. То есть уже нет этой ненависти к России и русскому языку, и, когда она прошла, все вспомнили, что все-таки это очень удобно – общий язык. И почему английский? Русский язык – славянский, в конце концов.
Для меня это все интересно лишь как мир новой геокультурной политики. И, конечно, страшно важно – новые центры, новые отношения. Вот только что один галерист из Вены организовал проект с участием художников из всех этих стран, включая Россию. То есть появляются люди, которым это интересно. Конечно, не всем, но я уверен, что такие отношения будут развиваться довольно устойчиво. А «культурное гетто», или «зоопарк», для Восточной Европы, мне кажется, не будет удачным, точно так же, как вполне провалилась идея ярмарки в Гамбурге. Ее устроили в ноябре, называлась она «Гамбург и Восточная Европа». Как выставка она была неплохой, довольно репрезентативной, но эффект как ярмарки был нулевой: в Гамбурге нет рынка, это, во-первых; нет интереса к этому искусству, во-вторых; Москва смотрелась гораздо интереснее, чем все остальное искусство Восточной Европы – это, в-третьих; и так далее. Я слышал, что даже организатор ярмарки все это осознал и больше ничего подобного делать не собирается. Логично работать с отдельными интересными галерейными павильонами, индивидуально приглашая их на Базельскую ярмарку, на другие, не устраивая вот такого зверинца. Мне кажется, выставка «Европа, Европа» в этом смысле – последняя попытка Запада показать Восток в целом.
«Зеркало» № 115, 1994 г.Виталий Комар:
«…Общие точки авангардных соприкосновений…»
Ирина Врубель-Голубкина: Как ты думаешь, судя по этой выставке, Восточная Европа, вообще вся эта часть мира, объединенная общеполитической силой, создала общий художественный язык?
Виталий Комар: Наверное, общий язык был выработан в этом веке, в начале века, не только среди социалистических стран, но и среди капиталистических тоже. Социалистические идеи были очень популярны: почитайте письма Ван Гога – он был социалистом; Пикассо был коммунистом. То есть модернизм рождался вместе с социализмом как попытка разрушить старые традиции. Затем, наверное, до тридцатых годов уже можно говорить о близости модернистского языка: все читали одни и те же немецкие и французские журналы. Я, конечно, имею в виду ту ищущую часть художников, которые претендовали на звание авангардистов, а они были, как мы видим на этой выставке, и в Польше, и в Чехословакии, и в России. А где-то в тридцатых годах началось уже расслоение. Во-первых, русское, советское, искусство приблизилось к национал-социалистическому; между ними много общего. Но остальных стран Восточной Европы это тогда не коснулось, говорить о соцреализме можно, конечно, только применительно к Германии и России. В Америке в этот период вообще модернизма еще не было. Затем завоевание Восточной Европы, конечно, ввело и эти страны в круг влияния соцреализма. После хрущевской оттепели начался уже как бы ретроспективный процесс. Вспомним такие ранние корни: Сталин был опровергнут, осужден, и была попытка возвратиться к «хорошему», начальному периоду социализма, более идеалистическому. К тому времени Америка уже превратилась в модернистскую страну. Одной из причин тому были эмигранты, которые убежали от Гитлера и переселились в Америку, – можно сказать, цвет модернизма и авангардизма. В Америке модернизм расцвел, укрупнился. И произошла странная аберрация: изначально возрождая как бы русский авангард, тем не менее смотрели не старые русские, а американские журналы, где все это было разрешено; или французские, – словом, западные. Для многих первые знания об авангарде были из журналов типа «Америка», «Польша». Почему Польша – в хрущевское время туда вернулись многие художники из Парижа, которые в тяжелое историческое время жили во Франции. Была такая волна возвращенцев-абстракционистов. Все это очень перемешано, много общих точек, даже если смотреть на это с разных сторон: есть общие точки консервативных соприкосновений, и есть общие точки авангардных соприкосновений.