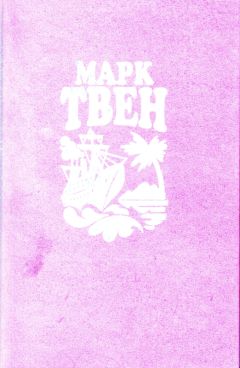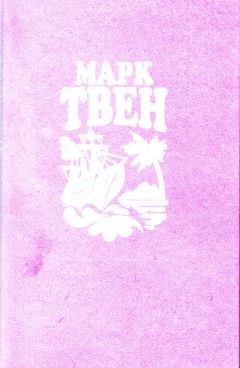Марк Твен - Простаки за границей, или Путь новых паломников
Гид показал нам в Ватикане колоссальную статую Юпитера, которая, как он объяснил, так грязна и повреждена – настоящий бог бродяг – потому, что ее только недавно выкопали в Кампанье. Он спросил, во сколько мы оценили бы этого Юпитера. Я, со свойственной мне сообразительностью, ответил, что он стоит четыре доллара, может быть четыре с половиной. «Сто тысяч долларов!» – сказал Фергюсон. Фергюсон далее сообщил, что папа не разрешает вывозить из своих владений произведения античного искусства. Для осмотра и оценки подобных находок он назначает комиссию. Затем папа выплачивает нашедшему половину объявленной цены и забирает статую. Фергюсон сказал, что этот Юпитер был выкопан в поле, недавно купленном за тридцать шесть тысяч долларов, и, таким образом, новый владелец собрал недурной первый урожай. Не знаю, всегда ли Фергюсон говорит правду, но полагаю, что всегда. Я знаю, что вывоз картин старых мастеров облагается неслыханной пошлиной, чтобы воспрепятствовать продаже их в частные коллекции. Я убежден, что в Америке вряд ли найдутся подлинные старые мастера, так как самые заурядные и дешевые из них стоят дороже хорошей фермы. Я сам собирался купить один пустячок Рафаэля, но цена была восемьдесят тысяч долларов, а вместе с пошлиной это обошлось бы мне в сто с лишним тысяч долларов, так что я посмотрел, посмотрел – и решил не покупать.
Тут я хочу, пока не забыл, упомянуть одну надпись, которую мне случилось увидеть:
«Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение!» Кажется, это точно по Священному Писанию, и уж во всяком случае это католично и человечно.
Это начертано золотыми буквами вокруг апсиды мозаичной группы, сбоку от scala santa церкви Св. Иоанна Латеранского – матери и госпожи всех католических церквей мира. Группа представляет Спасителя, святого Петра, папу Льва, святого Сильвестра, Константина и Карла Великого. Петр подает папе паллиум, а Карлу Великому – знамя. Спаситель подает ключи святому Сильвестру и знамя – Константину. К Спасителю никакой молитвы не обращено – в Риме он, видимо, не в почете; зато надпись внизу гласит: «Пресвятой Петр, ниспошли жизнь папе Льву и победу королю Карлу». Там не сказано: «Будь ходатаем нам перед Спасителем, да испросит он для нас у Отца эту милость», а сказано: «Пресвятой Петр, ниспошли ее нам».
Со всей серьезностью, отнюдь не легкомысленно, отнюдь не дерзновенно и, главное, отнюдь не богохульствуя, а просто делая выводы из виденного и слышанного мной, я утверждаю, что божественные особы почитаются в Риме в следующем порядке.
Во-первых – Богородица, другими словами – Дева Мария;
во-вторых – Бог Отец;
в-третьих – Петр;
в-четвертых – около пятнадцати канонизированных пап и мучеников;
в-пятых – Иисус Христос, Спаситель (но всегда в облике младенца).
Может быть, я не прав – мои суждения часто бывают ошибочными, так же как и суждения любого другого человека, – но, прав я или не прав, таково мое мнение.
Я хочу упомянуть здесь об одном любопытном явлении. В Риме нет «Христовых церквей» и нет «церквей Святого Духа» – по крайней мере, мне они не попадались. Всего здесь около четырехсот церквей, но из них около четверти названы в честь Мадонны или святого Петра. Церквей, названных в честь Девы Марии, столько, что их – если я правильно понял – приходится различать по всевозможным добавлениям. Кроме того, имеются церкви Св. Людовика, Св. Августина, Св. Агнессы, Св. Каликста, Св. Лоренцо в Лючине, Св. Лоренцо в Дамазо, Св. Цецилии, Св. Афанасия, Св. Филиппа Нери, Св. Екатерины, Св. Доминика и множества меньших святых, чьи имена почти неизвестны миру; и в самом конце списка, после всех церквей, есть две больницы; одна из них названа в честь Спасителя, а другая – в честь Духа Святого!
День за днем и ночь за ночью мы бродили среди разрушающихся чудес Рима; день за днем и ночь за ночью мы питались прахом и пылью двадцати пяти столетий, размышляли о них днем и видели их во сне ночью, пока наконец нам не стало казаться, что мы сами рассыпаемся в прах, утрачиваем одну за другой черты лица, теряем руки и ноги и в любую минуту можем стать добычей какого-нибудь антиквария, и тогда нам подштопают ступни, «реставрируют» нас, прибавив безобразный нос, неверно определят, неправильно датируют и поставят в Ватикане на веки вечные, чтобы поэты распускали слюни, а всяческие вандалы расписывались на нас.
Но лучший способ перестать писать о Риме – это перестать писать. Я хотел было написать об этом интереснейшем городе настоящую «главу из путеводителя», но не смог, потому что все время чувствовал себя, как мальчик в кондитерской лавке: глаза разбегаются, и не знаешь, что выбрать. Я исписал больше ста страниц, но так и не решил, с чего начать. Ну, так я вовсе не начну. Наши паспорта уже проверены. Мы едем в Неаполь.
Глава II
Неаполь. – Аннунциата. – Подъем на Везувий. – Монашеские чудеса. – Иностранец и извозчик. – Вид на ночной Неаполь с горного склона. – Подъем на Везувий (продолжение).
«Квакер-Сити» стоит здесь, в порту Неаполя, в карантине. Карантин длится уже несколько дней и кончится не раньше чем через неделю. Мы избежали этого несчастья, потому что приехали из Рима по железной дороге. Конечно, никому не разрешается посещать корабль или съезжать на берег. Сейчас «Квакер-Сити» – это тюрьма. Пассажиры, наверное, проводят долгие знойные дни, поглядывая из-под палубных тентов на Везувий, на красавец город и чертыхаясь. Представьте себе, каково провести в подобных занятиях десять дней! Мы каждый день подплываем к ним на лодке и приглашаем их на берег. Это их успокаивает. Мы покачиваемся в десяти шагах от корабля и рассказываем им, как чудесен город; и как хорошо кормят в здешних отелях – лучше, чем где-либо в Европе; и как там прохладно; и какие там подают глыбы мороженого; и как великолепно мы проводим время, совершая экскурсии по окрестностям и на острова залива. Это их умиротворяет.
Подъем на ВезувийЯ долго буду помнить эту поездку на Везувий – отчасти потому, что это была интересная поездка, но главным образом потому, что она была очень утомительна.
Мы втроем отдыхали два дня среди мирной и красивой природы острова Искья, расположенного в восемнадцати милях от Неаполя; мы говорим – «отдыхали», но теперь я уже не помню, из чего состоял этот отдых, ибо, когда мы вернулись в Неаполь, оказалось, что мы не спим уже третьи сутки. Мы как раз собирались лечь пораньше и наверстать часть упущенного сна, когда услышали об этой экспедиции на Везувий. Нас набралось восемь человек, и нам предстояло выехать из Неаполя в полночь. Мы запаслись на дорогу провизией, наняли экипажи, которые должны были доставить нас в Аннунциату, и, чтобы не заснуть, решили побродить по городу до двенадцати часов. Мы тронулись в путь точно в назначенное время и через полтора часа добрались до городка Аннунциаты. Второй такой дыры на свете нет. В других итальянских городах жители, разлегшись на солнышке, спокойно дожидаются, пока вы не обратитесь к ним с вопросом или не совершите еще какой-нибудь поступок, за который с вас можно будет потребовать вознаграждение, но обитатели Аннунциаты лишены и этих остатков деликатности. Они хватают шаль, которую дама положила на стул, подают ее и требуют вознаграждения – медную монетку; они открывают перед вами дверцу экипажа и требуют вознаграждения; закрывают ее, когда вы вылезете, и требуют вознаграждения; они помогают вам снять плащ – два цента; чистят ваш костюм, от чего он становится только грязнее, – два цента; улыбаются вам – два цента; сняв шляпу, кланяются с заискивающей миной – два цента; они спешат сообщить вам всевозможные сведения, например что мулов сейчас приведут, – два цента; теплый день, синьор – два цента; подъем продолжается четыре часа – два цента. И так без конца. Они набрасываются на вас, пристают к вам, назойливо вьются вокруг, потеют и пахнут самым возмутительным образом. Они готовы на любые унизительные услуги, лишь бы за них платили. У меня не было возможности по личным наблюдениям составить мнение о высших классах, но я кое-что слышал о них, и, судя по всему, отсутствие у них некоторых скверных привычек, свойственных черни, с лихвой возмещается другими, еще худшими. Какие попрошайки эти итальянцы! А некоторые из них к тому же хорошо одеты.
Я сказал, что по собственным наблюдениям ничего дурного о высших классах сказать не могу. Я ошибся. То, что вчера вечером на моих глазах проделывал цвет их общества, – в других, более великодушных странах, по-моему, постыдились бы делать даже подонки. Зрители собрались сотнями – даже тысячами – в огромном театре Сан-Карло для… для чего? Для того, чтобы поиздеваться над старой женщиной, чтобы освистать, оскорбить, поднять на смех актрису, которой когда-то поклонялись, но чья красота теперь увяла, а голос потерял былую прелесть. Все говорили, что спектакль обещает быть очень интересным. Предсказывали, что театр будет набит битком, потому что поет Фредзолини. Нам объяснили, что теперь она поет плохо, но что публика ее все равно любит. И вот мы пошли. И всякий раз, когда она начинала петь, они свистели и смеялись – весь блистательный зал, – а как только она уходила со сцены, они вызывали ее аплодисментами. Дважды она бисировала по пять-шесть раз подряд, и каждый раз ее встречали свистом, а когда она заканчивала, провожали свистом и смехом, но тут же публика требовала повторения и сыпался новый град насмешек! С каким восторгом высокорожденные негодяи предавались этой потехе! Господа в белых лайковых перчатках и элегантные дамы смеялись до слез и восторженно рукоплескали, когда несчастная старуха покорно выходила в шестой раз, чтобы терпеливо выдержать новый ураган свиста! Это было так жестоко, так бессмысленно и бездушно! Если бы этот зал был заполнен американскими хулиганами, она покорила бы их своим мужественным, невозмутимым спокойствием (она бисировала снова и снова, улыбалась, любезно кланялась, пела как могла лучше, кланялась, уходила со сцены и, несмотря на непрерывный свист и насмешки, ни на минуту не теряла самообладания); и, разумеется, в любой другой стране, кроме Италии, ее пол и ее беспомощность послужили бы ей достаточной защитой – другой ей и не понадобилось бы. Сколько же мелких душонок набилось вчера в театр! Если бы директор театра мог собрать в своем зале только души неаполитанцев, без их тел, он нажил бы не менее девяноста миллионов долларов. Какой душой должен обладать человек, чтобы с удовольствием помогать трем тысячам подлецов освистывать, оскорблять и подымать на смех одинокую старуху, бесстыдно подвергать ее невыносимому унижению? Он должен обладать всеми скверными душевными качествами, какие только существуют. Мои наблюдения убеждают меня (я не рискую выходить за пределы личных наблюдений), что высшие классы Неаполя наделены этими качествами в избытке. В остальном это, возможно, очень хорошие люди; я не берусь судить.