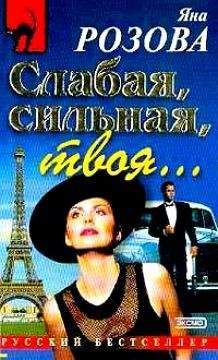Евгений Воеводин - Эта сильная слабая женщина
В прошлом году он приехал сюда с Ткачевым, огораживал места для купания бонами, следил, чтоб не разводили костры, и мотал себе нервы по выходным, когда из города наваливались отдыхающие. Старуха одна приходит сюда с тележкой по понедельникам. Рублей на десять, а то и больше набирает всяческой посуды. Добро бы из-под минералки, — так нет, в основном водочной! Ходит вдоль берега и как грибы ищет. А если человек выпивший, ему хоть в самое ухо ори, чтоб соблюдал правила отдыха на воде, ему все до лампочки, а здесь холодные ключи — сведет ногу, и все, и с приветом!
Все-таки я заметил, что о Ткачеве Коля заговаривал нехотя, и, может быть, вовсе не заговаривал бы, если б тот не потащил его в общество и он не оказался бы здесь. И эта вырезка из газеты была прикноплена к стене, наверно, не им, а самим Ткачевым. Мне показалось, что о Ткачеве, которого я мог представить себе лишь по этой фотографии, Коля говорит по какой-то обязанности. И я не выдержал.
— Слушай, — сказал я, — а ведь твой Ткачев, по-моему, мировой парень! Ну, хотя бы та история с бригадой.
— Он за Ткачевым хвостиком ходил, — усмехнувшись, сказал со своего лежака Колин напарник. — Глаза бы мои не смотрели!
— Брось, — поморщился Коля.
— А я и не поднимал, и бросать нечего. Факт, ходил? Факт!
— Ладно, — сказал я, допивая чай. — Спать пора, братцы. Пойду своих комариков кормить. Проголодались, поди, бедняжки.
Я шел к своему сараю, к своей раскладушке, и почему-то знал, что Коля придет туда чуть позже. Вернее, думал так, и вовсе не потому, что хорошо узнал Колю за эти пять дней жизни на Стрелецком озере, а потому, что он и я были одиноки здесь, и ему надо было выговориться чужому человеку — то есть мне, тем более, что я собирался скоро уезжать.
Он действительно пришел, и я зажег карманный фонарик, когда Коля постучал в дверь сарая, будто хозяином здесь был я, а не он.
— Садись, — сказал я, пододвигая ему красный спасательный круг. — Что, старческая бессонница одолела?
— Так, — сказал Коля. — Если не возражаете.
— Не возражаю.
Он сидел, мы курили, и вроде бы комарья сразу стало поменьше, и тихо было там, за стенками сарая, у ночного озера — тихо и по-ночному прохладно, — и вдруг Коля сказал с той отчаянной решительностью, с какой, наверно, кинулся бы спасать утопающего.
— Вы помните, вы мне про привычку на днях сказали? Ну, что человек, в общем-то, может привыкнуть ко всему?
— Помню, — ответил я. — Когда-то я даже стихи про это написал. Давно, лет в семнадцать.
Человек привычен ко всему —
К городу и дому своему,
К боли, и к работе, и к войне,
К выцветшим обоям на стене…
Дальше я не помнил свои юношеские стихи. И плохонькие были стихи, и зря я их, наверно, начал читать. Коля молчал, словно решая, сто́ит или не сто́ит говорить дальше с человеком, который думает иначе, чем он сам.
— Ладно, Коля, — сказал я. — Валяй, не темни. Чего у вас случилось-то в прошлом году?
…Что ж, так оно и было: за Ткачевым Коля впрямь ходил хвостиком. Это началось сразу же, как только он вернулся из армии. Старых друзей в городе не оказалось — один еще служил, другие подались куда-то на стройки, к третьим же — школьным — Колю уже не тянуло. Высокий, статный Ткачев, который был лет на десять старше, сразу понравился Коле своим спокойствием, за которым угадывалась духовная сила, и той уверенностью в себе, которой недостает в молодости и которая поэтому так притягательна в старших. Как бы там ни было, уже через неделю Коля был у Ткачева дома — сидели, пили пиво с рыбкой домашнего вяленья, и Ткачев показывал гостю семейные фотографии, что само по себе было признаком доверия, если не признания равенства отношений. Но все-таки Коля понимал, что равенства все равно нет и что до Ткачева ему далековато. В чем-то он пытался ему подражать, это происходило, пожалуй, подсознательно, но Коле было приятно держаться с людьми так, как Ткачев, — спокойно, с той доброй улыбкой, за которой иной раз проглядывала снисходительность сильного человека перед слабым.
У Ткачевых был свой дом, с огородом и садом, а Коля поселился в общежитии, потому что старший брат женился, и просто невозможно было жить втроем в одной комнате. Общежитие было плохое, и Ткачев, как-то заглянув к своему приятелю, поднял на заводе шум, дошел до завкома, а пока принимались меры, предложил Коле пожить у него. Дом-то большой, две комнаты вообще пустуют, чего тебе — живи! А там, глядишь, и собственное жилье подойдет. Коля жил у Ткачевых и отдавал его матери пятьдесят рублей за питание, — и не очень много, и не надо думать, где сегодня пообедать или поужинать. Так к прежнему чувству товарищества примешалось еще и чувство благодарности — теперь уже не только к Ткачеву, но и к его семье.
А потом вот эти самые курсы, и озеро, — чем не жизнь? — и снова Коля был благодарен за это Ткачеву. Для его матери в тот год он собрал два бидона черники и насушил грибов: первый слой колосовиков оказался щедрым, белые грибы росли рядом с осводовским домиком. Если б не выходные, когда приходилось спать по два-три часа и трепать нервы из-за этих отдыхающих, все было бы совсем здорово.
Однажды в будний день раздался телефонный звонок, и Коля поднял трубку. Голос был ему незнаком: обычно сюда звонили из Освода или из Кузьминского, инспектор рыбнадзора, у которого была страшноватая для такой должности фамилия — Скуратов. Здесь, на Стрелецком, он не появлялся месяцами. Зачем появляться, когда все лето на озере дежурят заводские ребята, народ сознательный, грамотный, рыбу потравить не позволят, а что касается удильщиков, то они таскают в основном плотву, которой в озере тьма-тьмущая. И для озера хорошо, и удильщикам ушица. Поймать же на удочку или донку крупного леща почти невозможно: рыба в озере сытая.
Несколько лет назад в Стрелецкое запустили мальков карпа. Теперь здесь водились здоровенные карпы, но этих можно было брать только сеткой. Пожалуй, сам Скуратов знал два или три случая, когда карп взял на удочку.
Так вот, голос в трубке был незнаком Коле, да и слышно было неважно, поэтому пришлось несколько раз крикнуть: «Кто? Кто говорит?»
— Бохенков говорит. Вы что, не слышите? Бохенков, главный инженер.
Коля знал, что главный инженер на их механическом — Бохенков, но не видел его ни разу, и то, что вдруг сюда, на станцию, позвонил сам главный инженер, вдруг смутило его, а верней, он просто оробел, да так, что не нашел ничего лучшего, чем сунуть трубку Ткачеву и сказать шепотом:
— Бохенков. Главный…
Его удивило, что и с главным инженером Володька Ткачев разговаривал так, как со всеми, — спокойно, даже весело, будто с ровней или близко знакомым человеком. Конечно, приезжайте. И устроиться есть, где. Ну, а насчет улова это как получится, кто что умеет. На блесенку и щучку можно взять. С утра плещутся возле камышей.
— К вечеру явится, — объяснил он Коле, положив трубку. — Кто-то к нам на завод приехал, шишка какая-то, ну, вот и везут ее подышать свежим воздухом. Ничего, переспим ночь в сараюшке, не помрем.
— Не помрем, — согласился Коля.
Гости приехали часа через три, и шофер вытаскивал из машины сумки — должно быть, с едой и соответственным, а затем достал из багажника путанку, и Коля поглядел на Ткачева, который в это время разговаривал с гостями. Ему показалось, что Ткачев сделал вид, будто не заметил эту путанку, хотя скользнул по ней глазами и не мог не заметить, конечно. Не такая уж это незаметная вещь.
Шофер носил сумки в домик, а Бохенков хмуро осматривал озеро, будто прицеливаясь к нему, будто стремясь определить, где лучше всего поставить сетку. Зато гость — маленький, плотный, в кожаном пиджаке пожилой мужчина то и дело восклицал:
— Красота-то какая! Мы в Москве в пыли сидим, асфальт плавится, к автоматам с газировкой очереди, а у вас такой рай под самым боком.
— Не до рая нам, Геннадий Петрович, — ответил главный. — Вкалываем так, что забыли, как трава выглядит.
— Не одобряю, — сказал гость. — Надо уметь сочетать.
Главный промолчал, но Коля понял это молчание. Должно быть, он подумал — тебе это хорошо говорить, на вас-то мало кто жмет, а на нас все, да так, что ни вдохнуть, ни охнуть. Вот как, по мнению Коли, в эту самую минуту подумал их главный.
Но, невольно прислушиваясь к разговору гостей, он то и дело переводил глаза на путанку, лежавшую возле машины, — она словно бы притягивала его к себе и, уловив момент, когда Ткачев поглядел на него, кивнул — видишь? Нет, Ткачев так ничего и не видел.
— Вы на какой лодке пойдете? Эта попросторней, зато грести тяжелей, а наша, осводовская, полегче.
— На вашей пойдем, — сказал приезжий Геннадий Петрович. — Нам баркас ни к чему, не на промысел приехали, а отдохнуть. Так вы, значит, тоже заводские?