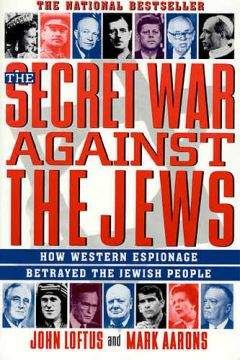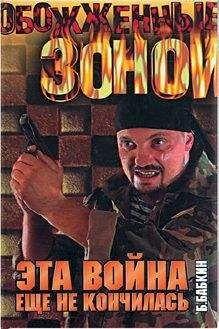Александр Андреев - Эсеры. Борис Савинков против Империи
Ивановская в последствии писала в своей великолепной книге воспоминаний «В Боевой Организации», как готовилось покушение на Плеве, и, читая ее, становится совершенно понятно, почему в империи начала ХХ века не было недостатка в революционерах и террористах. Ходившая под виселицей с 1883 года, по процессу Семнадцати Александра Михайлова, сбежавшая из Сибири Ивановская по правилам конспирации должна была некоторое время снимать угол в петербургских меблированных комнатах и искать себе место прислуги как неграмотная крестьянка. Дворянка Ивановская, чья сестра была замужем за писателем В. Короленко, оставила потомкам память об империи 1904 года:
«Медленно двигался наш сибирский поезд, подолгу задерживаясь на станциях, по горло увязших в снежных сугробах. Что, если за двадцатилетний срок каторги ничего не изменилось. Да, жизнь действительно несколько изменилась. Это заметно даже здесь, в Забайкалье, и обнаруживается все резче, по мере нашего движения на запад. Уже за Байкалом, на станциях начались разговоры на рискованные темы, но подлинная Россия была еще очень далеко. Только много дней спустя, в Челябинске, почувствовалось, что начинается подлинно русское, то именно, чего так страшился, от чего отбивался все время пути.
На перроне тесно жалась группа крестьян в рваных залатанных зипунах, в лаптях, с большими грязными сумами на спине. Там, в Сибири, не встречалось такого убожества, такой унизительной бедности, таких грязных людей. Когда прибывали туда вагоны с переселенцами, жители Сибири сбегались смотреть на невиданное и удивительное зрелище, – на людей-лапотников, сборище нищих, с тучей полуодетых, босых и истощенных детей. От Челябинска сразу началось великое наводнение вагонов нищенствующими детьми, калеками, вымаливавшими подаяние. Это унизительное явление никому не портило настроения, оно было, видимо, для пассажиров обычным бытовым явлением.
Опасение, что мой побег каждый день может быть обнаружен и с розысками обратятся, прежде всего, к родным, адрес которых был хорошо известен начальству, побудило меня не задерживаться у родных, а ехать не север, вступить в организацию и в меру небольших оставшихся сил отдаться работе, завещанной нашими погибшими братьями. Мне дали адреса, совет немного отдохнуть, осмотреться, выждать. По конспиративным условиям нельзя было никого видеть, тем более посещать знакомых, даже читать газеты и книги. Необходимо было занять оседлое положение, определенное место, с пропиской и подготовкой к званию прислуги. Необходимо было стать в самую простую обстановку, изолироваться от всего, не иметь ни с кем связей, а главное, жить в положении, где бы ни падало на меня и тени сомнения, паспорт у меня был неграмотной прислуги с отметками служебных качеств. С одной девушкой мы пустились на поиски углов или недорогой комнаты. Весь день мы проходили без видимой пользы по грязным и вонючим лестницам. Я взяла угол в общей комнате.
Помещение с углами было небольшое, с очень низким потолком, обвислым, грозившим как-нибудь ночью придавить всех своих жильцов. По всем четырем стенам стояли по два ящика, на которые клались по две-три доски, в соответствии с тем, на сколько душ готовилось логовище. Многие вместо кроватей пользовались своими сундуками, а случайные ночевщики просто ложились на свободное место на полу. В нашей комнате было восемь помостов. От двери на первом муж с женой и крошечным ребенком, рядом горничная, молодая девушка, дальше судомойка, лет двадцати, за ней я. Против нас – кухарка с пятнадцатилетним сыном, за ними горничная, затем пряничник сорока пяти лет, с взрослым сыном. Все углы и закоулки квартиры имели не менее сгущенное население. В кухне, совершенно лишенной света, жила дряхлая старуха, сапожник, работавший при мерцающем свете, пропойца-техник. Не было ни одного дня, когда бы число постоянных обитателей спускалось ниже двадцати пяти душ обоего пола.
Каждый, не будучи даже знаком с угловыми помещениями, может легко себе представить всю обстановку и условия, в каких ютился весь собранный там муравейник. Так как еда большинства состояла из селедки и черного хлеба, то ночная атмосфера доходила до своего предельного отвращения, вызывая у спящих удушье и головные боли. Приходилось почти каждую ночь нарушать признанное всеми правило общежития не открывать окна и тихонько на один сантиметр отворять раму и только под свежей струйкой воздуха приходил предутренний сон.
День наш начинался очень рано. Поодиночке и компаниями шли за кипятком, купить кто чего. По утрам большинство пило чай с черным хлебом. В 12 часов заходили в лавку приобрести там на 3 копейки кофе, на 3 копейки сливой, в ближайшем трактире получали за 1 копейку огромнейший чайник кипятку и еще за 1 копейку к нашим услугам была плита. Дома кофе пили без конца, вновь и вновь кипятя его, а после приходила хозяйка просить для себя оставшуюся гущу. Кое-кто питался исключительно подаяниями сострадательных жильцов. Другие – черным хлебом и трехкопеечной селедкой, делимой на две части, с хвостом в первый день, с головой на завтра. Спать укладывались рано, в надежде – авось, уснешь до ночных пьянок. Впрочем, эта общая мечта, увы, редко осуществлялась. То пьяные, а то слетались тяжелые мысли, у каждого свои. Угловая жизнь во многом напоминает тюремную, с прибавкой того минуса, что эти вольные обитатели отвратительных гнезд не имеют и того минимума обеспечения, который имеют арестанты в виде тюремного пайка. Вообще, все угловые общежития мало чем отличаются друг от друга, и по рассказам лиц, работавших тогда на одном и том же революционном деле, тоже живших по углам, исключение составляли только жилища извозчиков, сравнить которые безошибочно и без преувеличения можно только с выгребной ямой».
Савинков великолепно подходил к роли богатого иностранца и встречался со многими людьми из высшего общества, узнавая много интересного для террористов о привычках и образе жизни высших сановников империи. Ивановская, хорошо знавшая всех членов исполнительного Комитета «Народной воли», писала о нем: «Это был новый человек нового поколения, яркий, с внешностью изящного джентльмена, с нерусским акцентом речи, в безукоризненном костюме, благожелательный в обращении, – все эти качества резко его выделяли и делали заметной величиной во всякой среде. Его наружность не была красива: маленькие карие глаза, голова, слабо покрытая волосами, небольшие усики, выражение аристократической надменности в лице, с немого остро выступившими вперед плечами над впалой грудью, делали его похожим на ватного дворянчика. И, однако, все эти внешние черты в значительной степени стушевывались. В нем, в глубине, было что-то тонкое «нечто», вызывавшее большой интерес, глубокую привязанность, любовь к его даровитой природе. Он с какой-то правдивостью высказывал свои мысли и отношения к людям, что часто рисовало его не совсем выгодно для него самого. Это был новый представитель молодого поколения, уже сильно и резко отошедшего от своих предшественников, восьмидесятников, все разложившего, переоценившего ценности, выпукло и резко выдвинувшего свою индивидуальность».
Все обитатели террористической квартиры отлично играли свои роли. Барин-англичанин не скупясь давал на чай, старая кухарка услуживала дворникам, лакей подладился к швейцару и подружился с прислугой из других квартир. Дворник говорил о нем кухарке Ивановской: «ходит храбро, ступит – под ногами свистит». Сам лакей-метальщик Сазонов говорил товарищам: «Мы воскресим героический период борцов «Народной воли», мы будем достойными сынами своих славных отцов. Мы, партия, не можем молчать, оставаясь равнодушными зрителями этого позора страны. Это наше кровное дело, мы доведем его до конца, даже если все до одного погибнем». Савинков писал о членах своей группы: «Дора, молчаливая и скромная, жила только одним – своей верой в террор. Она не могла примириться с кровью, ей было легче умереть, чем убить. И все-таки ее неизменная просьбы была – дать ей бомбу и позволить быть одним из метальщиков. Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в Боевой организации. Сазонов верил в победу и ждал ее. Для него террор тоже, прежде всего, был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему «не убий». Ивановская любила всех членов группы одинаково, как родных детей. Тихо и незаметно делала она свое конспиративное дело, и делала артистически».
Наблюдение за министром внутренних дел в мае 1904 года велось энергично и умело. Все боевики приобрели необходимый конспиративный опыт. С утра швейцар приносил Савинкову газеты и каталоги велосипедов и автомобилей, дворник в кухне пил кофе с кухаркой и рассказывал все полицейские новости, певичка в сопровождении лакея шла в город за покупками и встречалась с нужными людьми, барин уходил к своим наблюдателям и сам вел наблюдение, вечером в театре, на концерте и в ресторане собирал нужную террористическую информацию. Вечером кухарка и лакей всегда уходили гулять, обычно на Фонтанку, к Департаменту полиции. Каляев, Дулебов, Мациевский стали мастерами наружного наблюдения, видели все выезды Плеве и определяли его карету за двести шагов. Ивановская писала о Каляеве: «К нам навстречу двигалась фигура торговца-папиросника, с лотком на ремне через плечо. Большой белый фартук закрывал его грудь и опоясывал пиджак, прикрывая его рваную одежду. Вытертый картузишко и стоптанные сапоги дополняли его костюм мелкого уличного разносного торговца. Даже набившие руку филеры не могли бы его признать за переодетого интеллигента. С возгласами купить самые лучшие папиросы он приблизился к нам, развернув свой красиво уложенный товар. Торгуясь и рекомендуя купить один предмет за другим, он тут же в промежутке сообщал нужные для других работников результаты наблюдений, тщательно им проверенных, или замеченных отклонений».