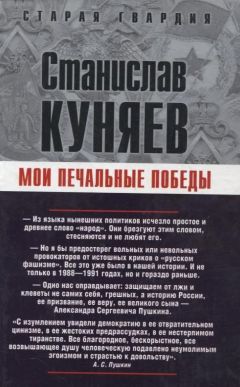Станислав Куняев - Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 2. …Есть еще океан
Очнулся я только тогда, когда услышал на тропинке голоса. Возвращаются! Ну сейчас я им покажу!
Опытный Портнягин заглянул в кружку, потом остановил взор на холодном очаге и понял все сразу. "Золото мыл?" Я радостно кивнул головой. "Типичная ошибка студента-первокурсника на полевой практике! Желтая слюда!.. Ну да ладно, на первый раз прощается… Давай варить макароны…"
Я засыпал, а голова у меня — видимо, оттого, что целый день работал, склонившись над бегущей водой, — кружилась, и во сне я до утра работал лотком, мыл золото, не какую-то желтую слюду, а настоящее, принесенное рекой из мощных рудных жил с вершин Гиссара…
* * *С утра у нас неувязка. Маршрут задерживается. Гнедой мерин Шарабан стоит невеселый. Конюх-таджик говорит, что мерин второй день ничего не ест. Эрнст понимает толк в лошадях. Он умеет подойти к лошади, погладить ее, потрепать по холке, что-то сказать, а когда надо — и прикрикнуть, и животные быстро проникаются послушанием. Ездит он как настоящий горец, с киргизской посадкой — плечо немного вперед; лошади доверяют его командам — легко понимая, чего он хочет от них. Он научил меня в прижимах — там, где тропа одной стороной лепится к отвесной скале, а с другой бушует река, — или на узких тропах, где лучше не смотреть по сторонам, потому что закружится голова, когда ты увидишь глубоко под собой серебряную ленту потока, — доверять лошадям, не брать их в шенкеля, не работать уздой; животное само сообразит, куда, на какой надежный кусочек земли поставить копыто. А в сумерках лошадь куда лучше человека чувствует край тропы, кромку обрыва, препятствие… Однажды моя чалая кобыла, которую я, торопясь к лагерю, жестко послал вперед, скользнула на повороте по отполированному гладкому камню, и я с ужасом почувствовал, что ее задние ноги повисли над пропастью и что мы лишь чудом держимся на краю осыпи. Тело ее задрожало, словно бы отзываясь на дрожь мелких камней, сыпавшихся из-под копыт.
"Ну, милая, выноси!" — молча взмолился я, понимая, что не смогу разом выдернуть ноги в трикони из стремян и что я не должен ничего делать, кроме как не мешать ей. Я склонился к ее потной холке и, отпустив узду, обнял лошадиную шею, перенеся центр тяжести немного вперед… Кобыла за два-три мгновения, показавшихся мне бесконечными, нащупала наилучшее положение своему мускулистому телу, ее грудные мышцы и сухожилия напряглись — и она, тяжело дыша, усилием одних передних ног вытянула себя и меня на тропу… Похолодев, я услышал, как с ее заднего копыта со скрежетом слетела подкова и, звеня о камни, понеслась, набирая скорость, в синюю реку Кафандар…
Весь этот сезон я работал с ней. Я привык к тому, что она— моя лошадь, и что-то сердечное было в этом чувстве собственности. У нее был жеребенок— тонконогий, большеголовый. Я брал с собой в маршруты несколько лишних кусков сахара и на привалах подкармливал и мать, и сына. На каждой остановке жеребенок подлезал под кобылу и жадно присасывался к ее маленькому вымени. Мне жалко лишать его радости, я жду, не погоняю лошадь, отстаю от ребят, и каждый раз приходится догонять их. Жеребенок обычно убегал по тропам вперед, но возле опасных мест всегда ожидал мать, подзывая ее тревожным ржаньем. А она ржаньем успокаивала его. Вообще когда они теряли друг друга из виду — то время от времени перекликались…
Однако гнедой мерин Шарабан стоял невеселый. Эрнст подошел к нему, погладил холку. Наклонился — потребовал поднять ногу. Шарабан послушался. Все четыре копыта были здоровыми. Может быть, наелся ядовитой юган-травы? У нас был такой случай, когда мы всю ночь гоняли начавшую биться в конвульсиях кобылу — конюх недосмотрел за ней, и она полдня паслась в роскошных зарослях этой травы, похожей на гигантские кусты укропа… Да нет, последние два дня Шарабан не отлучался от лагеря. Тогда Эрнст взял мерина за морду и рукой попытался открыть ему пасть. Шарабан, к нашему удивлению, сам охотно распахнул ее.
— Ну, конечно, пиявки…
Мы заглянули в пасть Шарабану. Эрнст отвернул ему язык. Под языком чернели клубки извивающихся червей. Оказывается, в некоторых застойных лужах и водоемах живут мелкие горные пиявки. И когда лошадь пьет воду — то личинки их остаются во рту, со временем начинают жить и размножаться на нёбе и под языком, и лошадь перестает есть. Эрнсту было это знакомо.
— Путы на ноги Шарабану! Плоскогубцы мне! Спирт из палатки! — скомандовал он и, засучив рукава, принялся за операцию. Мы держали Шарабана за седло и подпругу, но он и сам стоял спокойно, тяжело работая боками, пока Эрнст выгребал у него из пасти комки членистоногих, разбухших от темной крови. Они тут же лопались, и руки у Эрнста были окровавлены по локоть. У Шарабана, из его громадных, отливающих нефтяной пленкой глаз, текли слезы, но он, благодарный, терпел боль, переминаясь с ноги на ногу. Наконец полость рта была очищена, смазана спиртом, Шарабан сразу же повеселел, напился ледяной воды из Кафирнигана и потянул свою волосатую губу к зеленой траве.
— По коням! — кричит Эрнст. — По маршрутам! Перед тем как сесть в седла, мы рассматриваем топоснову.
Это приятное занятие. Отрадно видеть, что зеленые альпийские луга, коричневые возвышения, голубые ленточки рек и ручьев — все отмечено на бумаге, кем-то уже изучено. Обозначены высоты хребтов и цифры на голубых полосках рек — скорость их течения. Даже отдельная горная арча — видимо, старая и могучая — удостоилась чести быть нанесенной на карту. Даже развалины древнего кишлака… Интересно, сохранились ли они еще? Изучение топосновы рождает в душе какое-то надежное чувство: это не просто бумага — а карта, на которой все точно, надежно, и если уж указано озеро, то, когда мы перевалим хребет — оно конечно же там и будет.
* * *После двух месяцев изнурительного поля мы скатываемся с гор в Душанбе, на базу. Мишаня Громов, вцепившись в баранку, гонит наш потрепанный "газик" по пыльному серпантину вдоль мутного Вахша. В машину неведомо как — на палатки, вьючные сумы, ящики с образцами — буквально втиснуты аж под самый тент наши коричневые тела. Жми, Мишаня! В город — с его шумными базарами, с роскошными алыми арбузами, с грудами помидоров, с шашлыками, с газированной водой! В город — с его гомоном, многолюдьем, соблазнами, разноцветными женщинами! В город — с его почтамтом, где в окошке с надписью "до востребования" лежат для каждого из нас груды писем — от родных и друзей! В город — с его прохладными арками, с шелестящими листвой бульварами, с искрящимися фонтанами! В город — с его… банями!
И мы с Эриком пошли в баню, чтобы выйти оттуда — блистая отмытыми до позолоты атлетическими телами, благоухая после бритья и компресса самым дорогим одеколоном, в белых рубашках с индийскими агатовыми запонками, в наглаженных парусиновых брюках и в желтых сандалиях…
От пара, от горячей воды, от радости возвращения, от избытка кислорода в низине — наши головы пошли кругом.
— Эра, лови! — Я выплескиваю на него шайку ледяной воды! Он, поджарый, мускулистый, с животом, расчерченным на квадраты, с торсом, вылепленным из мышц, сухожилий и связок — ни единой капли городского жира, заливается дионисийским смехом. Бородатый и захмелевший, как сатир с древнегреческой вазы… Мы идем в парную, хлещем друг друга вениками, трем свои задубелые шкуры мочалками — и хохочем, хохочем! Я бросаю шайку под кран, открываю воду — не соображаю, что из крана льется крутой кипяток. Эрнст кричит мне что-то смешное, я захожусь смехом… и опрокидываю воду на стопу. Через несколько секунд мы молча наблюдаем, как кожа на моей драгоценной легкоатлетической ноге сморщивается, словно бумага, и начинает сползать, обнажая розовое мясо… Вот тебе и пир плоти! А через два дня, за которые мы хотели успеть насладиться всеми благами цивилизации, надо выкатываться снова в поле.
Грустные, сидим на базе и молча тянем домашнее вино — угощение нашей хозяйки Натальи Сергеевны. Она намазала мою ногу каким-то зельем от ожогов и успокаивает меня, что недели через две "новая кожа нарастет, ишшо лучше прежней". Наталья Сергеевна вообще философски относится к жизни.
— И что ты грустишь! Хужей бывает. Вот пока вы там по горам лазили, сосед наш себя из ружья застрелил. Вчера пошла его поминать, а батюшка велел из поминанья имя-то вычеркнуть. Сам на себя руки наложил — все равно помин не дойдет. В милиции работал, Алексеем звали. А хоронили тихо, в штатском, как негодного элемента… Я покойников не боюсь. Обмываю… И ни один никто не снился. А вот Алексея третьего дня видела. Словно бы пришел, а я виноград собираю. Он и говорит: "Дай, кума, винограду". Я бросаю ему, а все мимо рук. Так и ушел без ягодки. Значит, правильно батюшка сказал, что помин не дойдет…
Наталья Сергеевна вообще профессор по всем делам, касающимся похоронного ритуала, загробной жизни; сама она поет на клиросе в местной церкви, отец настоятель иногда заходит к ней чайку попить, а то и винца домашнего попробовать. Дом у нее полная чаша. А ведь были времена — лучше не вспоминать. Однако Наталья Сергеевна вспоминает всё: хорошее и плохое — видно, вся нынешняя жизнь ее питается одними воспоминаниями.