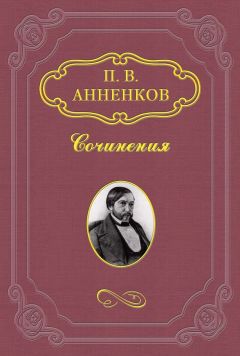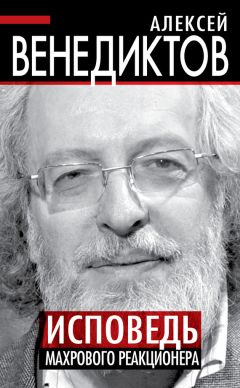Павел Анненков - Записки о французской революции 1848 года
Самая забавная депутация была приставов – для арестовывания должников, которые, после декрета об уничтожении тюрьмы за долги, ходили к Правительству просить вознаграждения [это все равно, что]: эти грубые люди, можно сказать, запугивали свою жертву до привода на место заключения. Нельзя исчислить всех депутаций с более нли менее нелепыми требованиями: мелочные торговцы, просившие еще отсрочки платежа по обязательствам, уже раз им данной, говорят, произвели в Ратуше маленькое возмущение, но им отказали. Одному только работнику – никогда не отказывается ни в чем, и я буду иметь случай уже скоро говорить, как эта демократия начинает смахивать на тираническую американскую демократию. Не дай этого бог. Но далее. Также невозможно перечислить чудовищностей клубных, которые, как кажется, заразительны и действуют даже на весьма умных людей. Так. Туссенель, отделившийся от фаланстерианцев{339}, как известно, вследствие своего презрения к капиталу, ими сильно уважаемому, сказал в одном клубе: «На свете только одна была тирания – капитал и одно рабство – работа. Иисус распят был капиталом». Впрочем, к концу этого месяца, после кровавых сцен у Бланки, клубы уже начинают, видимо, успокаиваться, по крайней мере формально. Они уже пускают только по билетам, длинные речи заменили жаркие диалоги, но пережевка журнализма и какая-то бойкая невежественность еще до сих пор им свойственны – и долго будут еще. Что-то выкажет Центральный клуб Барбеса. В начале месяца довольно любопытное происшествие заняло все умы. После взятия Тюльери, народа в нем осталось, говорят, несколько тысяч с намерением оберегать его. Они расположились в комнатах, завели там пир из королевских погребов, приняли больных девок, выпущенных народом из St. Lasare{340} и все вместе делили добычу поровну, делая по ночам, однакож, патруль в саду и в городе, вероятно, для собственного освежения. Когда же не стало королевской провизии, они опустошали окрестные лавки хлебников и винных торговцев, предоставляя им чинить взыскания с Пра<вительст>ва. Двенадцать дней таким образом жила эта толпа в Тюльери, опочивая в его постелях, лежа на его диванах и беспрестанно выгоняя старый хмель новым и все под предлогом охранения дворца от попыток тирана Лудвига-Филиппа. Каждый день она, однакож, уменьшалась работниками, возвращавшимися к себе в дома или наскучившими своим добровольным заключением. 7 марта их осталось только 200 человек, но Пр<авнтельст>во решилось во что бы то ни стало очистить дворец. Эти упорные 200 человек, полюбившие свою мясную монастырскую жизнь, как любой францисканец{341}, хотели сопротивляться. К ним послали отряд национальной гвардии, принудивший их покинуть теплое место. В крайности они сдались, но с условием: во-первых, чтобы не обыскивали их карманы (многие предупредили эту меру бегством), а во-вторых, чтоб свели их в Ратушу и объявили им благодарность за хорошее сохранение дворца и услугу, оказанную им этим государству. Так и было сделано: молодцы получили похвалу официальную и даже во многих журналах («L'Ami du peuple») об них говорилось, как о героях, которые оклеветаны в городе злостными людьми и сделались жертвами своей преданности к Республике. Чего, подумаешь, не бывает на свете и как иногда составляется история. Немалую тревогу подняла история с «Прессой». Ее желчные нападки на людей Пра<вительст>ва, особенно сравнения Ламартина с Гизо и Роллена с Дюшателем, возбудили толпу, которая направилась на улицу Monmartre разбивать станки журнала и на пути покрикивала: «à mort Girardin» – «Смерть Жирардену» (франц.).). Прибежавшая национальная мобильная гвардия, сам Курта, наконец, сам Роллен, прибывший на место, прокламации всех республиканских журналов, осуждавших попытку, оттеснили толпу и спасли свободу книгопечатания. Жирарден, бывший в типографии, выдержал бурю довольно хорошо. Он велел открыть ворота, просил депутацию от работников для объяснения всего дела, спорил с ними часа два и с задором интригана, составляющим его отличительное качество, возражал на их обвинения, но тон журнала несколько смягчился, хотя по-прежнему старание более запутать дело, чем объяснить их, сохранилось. Третья история, занявшая все умы, это публикация в «Revue rétrospective» г. Ташеро (смотри ниже) документа, обличающего в Бланки доносчика и мерзавца. Вчера, 3 апреля, в клубе его подписывалось друзьями его письмо, протестация против обвинений, как там названо, клеветнических, Пра<вительст>ва, желающего погубить известного патриота, но Бланки уже потерялся в общественном мнении, ибо документ несомненен. Тут же кстати в клубе говорилось о радикальном уничтожении собственности, как первой причины всего зла на свете.
Другой клуб (de la jeune Montagne{342}, прежний de la Sorbonne) просил Правительство об уничтожении всех статуй королей французских, еще находящихся на площадях Парижа, и заменении их статуями мучеников 9 термидора. Рано ли, поздно ли, желание это будет исполнено. Я никак не могу отнести к числу странностей н эксцентричностей эпохи, которым посвящен этот постскриптум, декрет Правительства, основывающий женские собрания из работниц, под председательством мэра и под покровительством гражданки Ламартин и гражданки Милле, в котором они должны совещаться о своем положении, выбирать работы, им свойственные, перечислить не имеющих работы, и все это представить Правительству. На первый раз назначено 50 сантимов праздным работницам в день. Как говорят, 20 т. праздных работниц получают каждый день 1 фр. 50 сантимов. Желающие работать получают в публичных работах, нарочно устроенных (сравнение почвы в Champs de Mars, на железных дорогах) – 2 фр., но предпочтение работников остается за платой без труда. Это старый республиканский рацион: государство кормит народ. Также нельзя отнести к странностям новую кафедру, открытую официально в Сорбонне: Cours d'Histoire morale des femmes – Курс моральной истории женщин (франц.).), профессором который назначен г. Легуве, разделяющий вместе с Мишле и Кине, снова открывшими свои лекции, толпы жаждущих поучения и любопытствующих. Об этом курсе придется сказать много слов впоследствии. Вот письма старых литераторов, запятнанных на службе Луи-Филиппа, к избирателям и их исповедь своей жизни, полны уж точно чудовищностей: таковы письма Дюма, В. Гюго, Сю и др.{343}, о них мы будем говорить в следующем месяце при выборах, которые, вероятно, и будут его единственным и настоящим содержанием. И все это волнуется, колеблется, черное и фосфорическое, как море в бурю!
115
Гарсоны (франц.).
116
Чернорабочие (франц.)
117
Пудосардки (от франц. sans pudeur) – бесстыжие.
118
Машина для ответов (франц.).
119
Оросить дерево свободы (франц.).
120
«Власть большинства, – говорите вы. – Но в этом нужно еще разобраться как следует. Да, власть слаба в некоторых вещах, она так слаба, что не может остановить сумасбродную выходку первого встречного, которому вздумается осветить тот или другой квартал Парижа. Но зато она так сильна, что вся партия консерваторов, которая всего месяц назад была у власти и которая до сих пор является основным обладателем богатства, совершенно бессильна перед ней…» (франц.).
121
Легион везувианок (франц.).
122
Имеет быть составлен (франц.).
123
Эмигрантский миллиард (франц.).
124
Франция, обогащенная за восемь дней (франц.).
125
Чтоб сохранить память их приема и тона, им свойственного, списываю [целиком один о составлении якобинского клуба, подписанный каким-то] конец одного плакарда, извещающего о новом коммунистическом журнале гг. Комбе (Combet) и Карла Дезольма{344}
(Désolme). La Véritable République:
«Que personne ne puisse jouir d'un superflu tant que quelqu'un mangue du nécessaire:
Sans cela point de Fraternité.
Que personne ne jouisse du droit au nécessaire sans l'avoir mérité:
Sans cela pas d'Egalité.
Que personne ne puisse être dépossédé de ses droits imprescriptibles d'homme:
Sans cela pas de Liberté.
La véritable République le démontrera.
Victor Combet, Charles Désolme
(«Настоящая республика
Пусть ни у кого не будет излишка, пока есть кто-то, кому не хватает необходимого.
Без этого нет братства.
Пусть никто не будет иметь права на необходимое, если не заслужил его.
Без этого нет равенства.
Пусть никого нельзя будет лишить неоспоримых прав человека.
Без этого нет свободы.
Настоящая республика это докажет.
Виктор Комбе и Карл Дезольм» (франц.).)
Несмотря на этот решительный тон, первый №, только показавшийся, состоял из бедного полулистка и держался в той общей неопределенной форме, которая понятна грубому уму, но не представляет выхода в действительность. Совсем другое выражал плакард, возвещающий о составлении нового клуба: Club de la Montagne{345}. Основатели его: известный расстриженный аббат Констан, гг. Легалуа и Эскирос представляют партию кровавых коммунистов, начинающих с нивелировки всего существующего и странно связывающих свое существование с Иисусом и [религией] христианством. Плакард возвещал, что клуб намерен продолжать работу старых монтаньяров, которые сами только продолжали дело великого санкюлота Иисуса, замученного на тридцать первом году своего возраста. Мы будем, говорит он, возвещать истину, как возвещал Иисус на горе, посреди грома и молнии. Клуб этот, крайне ничтожный, имеет однакож тоже бедный листок под названием: «la tribune du peuple». Он редактируется преимущественно г. Констаном, уже прежде отличившемся в своей Библии «de la liberté» – «Свобода» (франц.).) советами убить отца, жену, если они стоят на пути прогресса (за что и в тюрьме посидел). Тон журнала на первый раз мягче, чем следовало бы ожидать, как можно видеть из следующей выписки: Nous croyons qu'un seul homme qui meurt de faim accuse d'assassinat la société tout entière… Or s'il fallait pour qu'un pareil crime ne se renouvelât jamais, que la société tout entière fût punie…. je demanderais seulement d'être frappé le premier, mais j'acquiescerais en frémissant à cet immense et épouvantable justice! – Мы думаем, что один человек, умирающий с голода, обвиняет тем самым все общество. Вот почему, если для устранения подобного несчастия нужно было бы уничтожить все общество целиком, мы бы попросили только первого удара для себя, и с содроганием, но согласились бы на эту страшную и поголовную расправу! (франц.).)