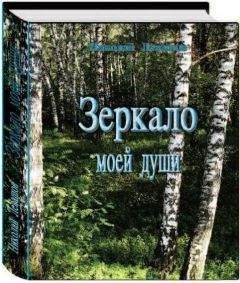Александр Беляев - Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1
Наша кухарка, она же и экономка, которая заведовала всем нашим хозяйством и бельем, была туземка, смешанной русской и татарской крови, сирота, воспитанная в доме священника и выданная замуж против воли за туземца, жившего в работниках у того же священника. Это была молодая женщина двадцати двух лет, очень хороша собой и, по своей честности, способности и преданности, была для нас с братом истинным кладом. Муж ее жил на Абакане у одного думского письмоводителя. Она была так хороша, а главное, так умна, что впоследствии, когда овдовела, уже после нашего отъезда на Кавказ, на ней женился наш товарищ и друг Н.А. Крюков.
Зимой мы также чередовались с братом и по неделям жили на заимке (по-здешнему хутор), так как там производилась молотьба пшеницы, овса, ячменя, ярицы, и это время, конечно, было поскучнее, не то что летом. Но вот через три года приехали в Минусинск, тоже на поселение, Крюковы, наши товарищи, и так как они приобрели также пашню, по нашему примеру, и около нас, то мы уже жили на заимке с Николаем, с которым были дружны еще в нашем заключении. Какая была радость, когда в один прекрасный летний день мы увидели остановившуюся у наших ворот бричку и выходящих из нее наших друзей и товарищей! Как крепко обнялись мы, сколько расспросов об оставшихся товарищах и о наших милых незабвенных дамах; они же расспрашивали о нашем бытье-житье; расспросам и ответам не было конца, и только поздняя ночь и сон положили им конец. Помню, что в эту самую памятную ночь была гроза, лил дождь, и у нас, под шумок, украли из кладовой провизию.
С их приездом и полевые занятия наши стали много приятнее, потому что нам всегда сопутствовал Николай. Это был человек кипучей деятельности, он полюбил хозяйство и повел дело очень хорошо. Братья Крюковы оба служили во Второй армии, тогда еще под начальством графа Витгенштейна; старший был его адъютантом кавалергардского полка, а младший Генерального штаба. Он прежде был в университетском пансионе, кончил же в училище колонновожатых у Николая Николаевича Муравьева.
Они также купили дом недалеко от нас, завели домашнее хозяйство, которое исключительно принял на себя Александр Александрович. Он был большой гастроном и не любил полевого хозяйства, которым занимался исключительно меньшой брат; вставал и ложился он поздно, проводя вечера у окружного Петра Афанасьевича или у кого-нибудь, где собирались на бостон и вист. Одно воскресенье положено было обедать у нас, а другое у них. Если кто-нибудь из знакомых приезжал в город, то останавливался или у нас, или у них. Вместе с ними приехал тоже на поселение Иван Васильевич Киреев, который и жил у нас; потом еще приехал с большим семейством И. Осипович Моз., так что наше общество увеличилось значительно.
Все, что приезжало в город из образованного класса людей, как-то: ученые, иностранцы, приезжавшие попытать счастья на золоте, или ученые, командируемые с какою-нибудь ученою целью, — все это группировалось около нас. Между этими господами были личности очень приятные.
Так, два года сряду посещал Минусинск берлинец Лессинг, потомок писателя, как он заявлял. Он ездил в Саянские горы для барометрического измерения гор. Это был славный молодой человек, очень умный, ученый, занимательный, но в то же время и несколько забавный по своему немецкому самолюбию. Например, он выдавал себя за хорошего ездока, тогда как был очень плохим. Он возил с собой уральское казацкое седло, находя его очень покойным для долгой верховой езды, что и справедливо. Ему привели даже оттуда казачью лошадь. Однажды мы собрались с ним на тетеревов оба верхом. Подо мной была молодая игреневая лошадь, ходившая иноходью, до того покойная в езде, что я делал на ней, бывало, верст тридцать, ездивши в улусы за покупкой скотины и приезжал домой, как будто не ездил. Возвращаясь с охоты, неудачной, так как тетеревов не видели, я заметил, что немец мой на рыси был не совсем по себе, фигура его изображала это. Мне пришло в голову испытать его наездничество, и я стал понемногу прибавлять иноходи; вижу, что его стало крепко привскидывать; видя же сбоку его страждущую физиономию, хохотал внутренне. Он несколько времени крепился, но наконец не выдержал и взмолился ломанным русским языком, и мы поехали шагом, но я едва мог сдержать разбиравший меня хохот. При отъезде в Саянск он пожелал и нас сделать маленькими участниками его ученых работ, оставив нам свой стеклянный термометр, и просил делать метеорологические наблюдения, что и исполнялось братом аккуратно, записывалось и потом передано ему.
Потом был у нас астроном Федоров, один из замечательнейших ученых того времени: кажется, он был помощником Струве в Пулковской обсерватории. Он был командирован для астрономического определения широт многих из сибирских городов. Это была чудная и симпатичная личность, какую редко можно встретить: что за кротость, что за безмятежное спокойствие, что за мягкость и ровность характера. Мы с братом просто влюблены были в этого чудного человека и с большим сердечным сожалением с ним расстались — так он привязал нас к себе в течение одной или двух недель своего пребывания. Мы часто бывали у него во время его наблюдений, которые делались через каждые полчаса, и в свободное время смотрели в его огромный телескоп. Этот чудный небесный мир должен иметь огромное влияние на дух человека и астронома. Смотря в огромный телескоп, как будто отделяешься от земли и чувствуешь себя в воздушном пространстве. Эти светлые бесчисленные миры, быстро проплывающие, недосягаемые пространства в таинственной тишине ночью поистине имеют что-то чарующее, и может ли разумное мыслящее существо не сознавать то необъятное, непостижимое величие Существа, определившего их место и их движение! Поистине, небеса поведают славу Божию! Вот почему, думал я, эта чудная натура так гармонична, так возвышенна и так привлекательна. Казалось, астроном Федоров только частию своего существа был на земле, а вся остальная принадлежала небу, и действительно он вскоре перешел в эти обители света, быв еще очень молодым.
Иногда приезжал в город главный комиссионер по откупам богача Рязанова, золотопромышленника и откупщика, Дмитрий Федорович Ездаков, человек очень образованный, хорошего общества, чрезвычайно приятный, благороднейший по своим правилам и добрейший по сердцу. Мы его очень полюбили и были связаны дружбой до самого нашего выезда. Из всего этого можно видеть, что недостатка в приятном обществе в Минусинске не было.
В Чите мы одно время занимались изучением земледелия и вообще хозяйства, читали по этому предмету книги с Константином Петровичем Торсоном, который основательно изучил этот предмет и написал несколько весьма интересных проектов об улучшении экономического положения России. Не знаю, сохранились ли где эти рукописи, но они были замечательны по своей строгой отчетливости, новизне взгляда и показывали, какими разнообразными сведениями обладал этот человек. Нужно сказать, что он еще во время службы отличался своими сведениями, своею изобретательностью, и новейшее вооружение того времени корабля, который отвозил в Росток покойного Николая Павловича с семейством, еще Великим Князем, было поручено ему по его и им выполненному проекту. Торсон делал кругосветную кампанию лейтенантом в экспедиции для открытия у Южного полюса, со знаменитым нашим капитаном Беллинсгаузеном. В числе экономических вопросов значительное место занимали у Торсона машины, облегчающие и упрощающие тяжелый земледельческий труд. Он сделал чертеж 4-конной молотилки-веялки-сортировки Дамбалея; но так как эта машина имела пропасть чугунных колес, так что в Сибири устройство подобной машины было немыслимо, то Константин Петрович придумал все эти колеса заменить деревянными кругами с ремнями, а так как ремни требовались толстые постромочные, то за недостатком этого он придумал к механизму простые веревки. Когда хлебопашество наше устроилось и усилилось, то мы с братом вздумали приступить к постройке молотильной машины Дамбаля, весьма сложной. Все чертежи и с размерами частей, поставленные Константином Петровичем, были нам переданы, так как мы ранее его выезжали на поселение, и вот мы отыскали мастеров столяров, в числе коих был и московский иконостащик Зверев, и принялись за дело. Впрочем, этим делом преимущественно занимался брат, который был больше знаком с механикой, чем я, похвалиться не могу, хотя проходил ее в курсе Гамалея; но между нами была та разница, что брат вышел в первом десятке отличных, а я в 30 обычных. Покончив части, приступили к самому остову. За городом была выкопана яма, где должна была помещаться нижняя часть, сортировка зерна, другая для привода. Привод состоял из центрального на шипах столба, вершиной своей входившего в подшипник перекладины. Огромного размера колесо было утверждено на нем, а в окружность вбиты железные рогульки, чтоб канат не скользил и не сдавал. Молотильный барабан сделан был деревянный с березовыми кулаками, обитыми железными толстыми полосами; под барабаном была веялка с деревянными гладкими дощатыми скатами, откуда зерно скатывалось вниз, просеивалось и падало в три отделения: самое тяжелое, среднее и легкое, или азатки. Впереди барабана были грабли с железными зубцами, все из дерева. На пробу собрались многие знакомые из города. Рожь молотилась очень чисто, ячмень и овес хуже, так что приходилось его перебивать другой раз. Но все же дело было сделано и машина отправлена на пашню.