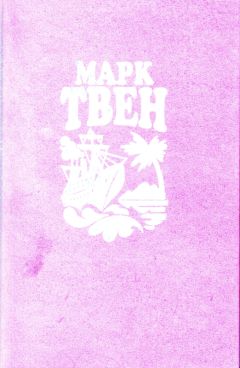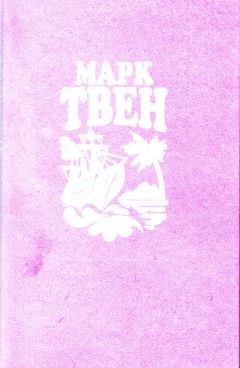Марк Твен - Простаки за границей, или Путь новых паломников
Он показывает нам статую и говорит:
– Стату брунзо (бронзовая статуя).
Мы равнодушно поглядываем на нее, и доктор спрашивает:
– Работа Микеланджело?
– Нет. Неизвестно кто.
Потом он показывает нам древний римский форум. Доктор спрашивает:
– Микеланджело?
Гид удивленно смотрит на него.
– Нет. Одна тысяча лет раньше, как он родился.
Затем – египетский обелиск. Снова:
– Микеланджело?
– О, как можно, господа! Два тысяча лет раньше, как он родился!
Ему так надоедают эти бесконечные вопросы, что он уже боится вообще что-нибудь нам показывать. Он всячески пробовал объяснить нам, что Микеланджело ответствен за сотворение только части вселенной, но почему-то до сих пор это ему не удалось. Переутомленным глазам и мозгу крайне необходимо дать отдых от непрерывного осмотра всяких достопримечательностей, иначе нам действительно грозит идиотизм. Поэтому наш гид будет страдать и дальше. Если это ему не нравится – тем хуже для него. Нам это нравится.
Тут я, пожалуй, настрочу наконец главу об этом неизбежном зле – европейских гидах. Сколько людей мечтало о том, чтобы обойтись без гида! Но, зная, что это невозможно, каждый из них мечтал извлечь из него хоть какое-нибудь удовольствие, хоть чем-нибудь возместить страдания, причиняемые его обществом. Мы нашли способ, как этого достичь, и если наш опыт может оказаться кому-нибудь полезным, мы рады им поделиться.
Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы запутать любое объяснение настолько, что разобраться в нем совершенно невозможно. Они знают историю каждой статуи, картины, собора и любого другого чуда, которое нам показывают. Они знают ее наизусть и рассказывают ее, как попугаи, – если прервать их, они сбиваются и принуждены начинать сначала. Всю свою жизнь они занимаются тем, что показывают редкости иностранцам и выслушивают их восхищенные возгласы. Каждый человек любит вызывать восхищение. Именно поэтому дети всячески стараются острить и «выламываться» в присутствии гостей; именно поэтому присяжные сплетники готовы в дождь и в бурю бежать к соседям, лишь бы успеть первыми рассказать удивительную новость. Нетрудно понять, что для гида, привилегия которого каждый день показывать чужестранцам чудеса, приводящие их в экстаз, это становится страстью. Он так привыкает к этому, что уже не может существовать в более трезвой атмосфере. Как только мы открыли это, мы перестали впадать в экстаз, мы больше ничем не восхищались; какие бы замечательные чудеса ни показывал нам гид, мы оставались тупо-равнодушными, и на наших лицах не отражалось ничего. Мы нашли уязвимое место этого сословия. С тех пор мы неоднократно пускали наше открытие в ход. Кое-кого из них нам удалось разозлить, но сами мы сохраняли невозмутимое благодушие.
Вопросы обычно задает доктор, потому что он хорошо владеет своим лицом и как никто умеет принять слабоумный вид и говорить идиотским голосом. У него это получается очень естественно.
Генуэзские гиды обожают американских туристов, потому что американцы всегда готовы изумиться, расчувствоваться и прийти в восторг при виде любой реликвии, связанной с Колумбом. Наш тамошний гид был преисполнен нетерпения и воодушевления. Он сказал:
– Идите со мной, господа! Идите! Я показать вам письмо, писанное Христофор Коломбо! Сам писать! Писать своей рукой! Идите!
Он повел нас в ратушу. После долгой внушительной возни с ключами и замками перед нами был развернут старый, пожелтевший от времени документ. Глаза гида засияли. Он плясал вокруг нас и стучал по пергаменту пальцем:
– Что я вам говорить, господа? Не так ли это? Глядите! Почерк Христофор Коломбо! Сам писать!
Мы симулировали равнодушие. В течение долгой мучительной паузы доктор внимательно рассматривал документ. Затем он сказал, не проявляя ни малейшего интереса:
– А… как… как вы назвали субъекта, который написал это?
– Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо!
Доктор снова внимательно исследует письмо.
– А… он его сам написал? Или… или… как?
– Он писать сам! Христофор Коломбо! Его собственный почерк, написан им самим!
Затем доктор положил письмо и сказал:
– В Америке я видывал четырнадцатилетних мальчишек, которые пишут лучше.
– Но это же великий Христо…
– Меня не интересует, кто это писал. Худшего почерка мне не приходилось видеть. Не думайте, пожалуйста, что вы можете нас дурачить, раз мы иностранцы. Мы не потерпим подобного обращения. Если у вас есть образчики настоящей каллиграфии, мы будем рады с ними ознакомиться, а если нет, то незачем здесь задерживаться.
Мы отправились дальше. Гид был сильно обескуражен, но сделал еще одну попытку. У него было в запасе нечто, чем он собирался нас поразить. Он сказал:
– Ах, господа, вы идти со мной. Я показывать вам прекрасный… о, великолепный бюст Христофор Коломбо! Чудесный, замечательный, великолепный!
Он подвел нас к прекрасному – действительно прекрасному! – бюсту и, отступив, встал в позу:
– Ах, взгляните, господа! Прекрасный, чудесный бюст – бюст Христофор Коломбо! Прекрасный бюст, прекрасный постамент!
Доктор приставил к глазам лорнет, купленный специально для таких оказий.
– А… как вы назвали этого джентльмена?
– Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо!
– Христофор Коломбо… великий Христофор Коломбо. Ну а чем же он знаменит?
– Открыл Америку! Открыл Америку! Черт побери!
– Открыл Америку? Тут какое-то недоразумение. Мы только что из Америки и ничего об этом не слышали. Христофор Коломбо… красивое имя… А… а он умер?
– О, corpo di Bacco![29] Триста лет назад!
– А отчего он умер?
– Не знаю. Не могу сказать.
– От оспы, а?
– Я не знаю, господа! Я не знаю, отчего он умер.
– От кори, должно быть?
– Может быть, может быть… Я не знаю… Наверное, он умер от чего-нибудь.
– А родители живы?
– Невозможно!
– А… а что здесь – бюст, а что – постамент?
– Санта Мария! Вот это – бюст, а вот это – постамент!
– Ага, понимаю, понимаю. Удачное сочетание. Весьма удачное. Но бюст не очень пышный.
Иностранец не понял этой шутки: гидам недоступны тонкости нашего американского остроумия.
Мы не даем скучать нашему римскому гиду. Вчера мы снова провели около четырех часов в Ватикане, этом удивительном хранилище редкостей. Несколько раз мы чуть было не выказали интереса, даже восхищения – удержаться, казалось, невозможно. Все же нам это удалось. Гид был совсем уничтожен и не знал, что делать. Он сбился с ног, выискивая всякие диковинки, истощил весь запас своей изобретательности, но у него так ничего и не вышло: мы не проявили интереса ни к чему. Под конец он пустил в ход свой главный козырь – царственную египетскую мумию, пожалуй лучшую из существующих. Он повел нас к ней. На этот раз он был так уверен в успехе, что обрел часть прежнего энтузиазма.
– Взгляните, господа! Мумия! Мумия!
Лорнет приставляется к глазам с обычной хладнокровной медлительностью.
– А… как, вы сказали, зовут этого джентльмена?
– Зовут? Его никак не зовут! Мумия! Египетская мумия!
– Так, так. Здешний уроженец?
– Нет! Египетская мумия!
– Ах, вот как. Значит, француз?
– Нет же! Не француз, не римлянин! Родился в Египта!
– В Египта. В первый раз слышу об этой Египте. Какая-то заграничная местность, по-видимому. Мумия… мумия. Как он хладнокровен, как сдержан. А… он умер?
– О, sacré bleu![30] Три тысячи лет назад!
Доктор свирепо обрушился на него:
– Эй, бросьте ваши штучки! Считаете нас за простофиль, потому что мы иностранцы и проявляем любознательность! Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и молния! Берегитесь, не то… если у вас есть хороший свежий труп, тащите его сюда! Не то, черт побери, мы разобьем вам башку!
Да, мы не даем скучать этому французу. Однако он с нами отчасти сквитался, сам того не подозревая. Сегодня утром он явился в отель узнать, не встали ли мы, и постарался описать нас как можно точнее, чтобы хозяин понял, о ком идет речь. Заканчивая свое описание, он мимоходом заметил, что мы сумасшедшие. Это было сказано так простодушно и искренне, что шутка для гида получилась недурная.
Есть один уже упоминавшийся вопрос, который неизменно доводит гидов до белого каления. Мы пускаем его в ход всякий раз, когда не можем придумать ничего другого. После того как они истощат все запасы своего энтузиазма, восхваляя красоты какого-нибудь древнего бронзового истукана или колченогой статуи, мы начинаем молча, с глупым видом рассматривать эту диковинку пять, десять, пятнадцать минут – словом, сколько сумеем выдержать, а потом спрашиваем:
– А… а он умер?
Это пронимает самого добродушного из них. Они никак этого не ждут – особенно новые, еще не знающие нас. Наш многострадальный римский Фергюсон, пожалуй, наиболее терпеливый и доверчивый из всех гидов, которые до сих пор нам попадались. Жаль будет расставаться с ним. Нам очень нравится его общество. Мы надеемся, что ему нравится наше, но нас терзают сомнения.