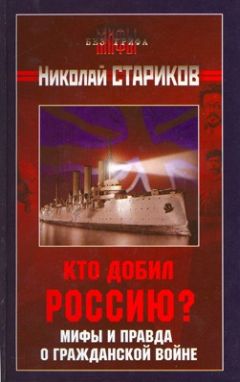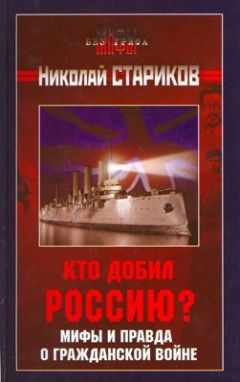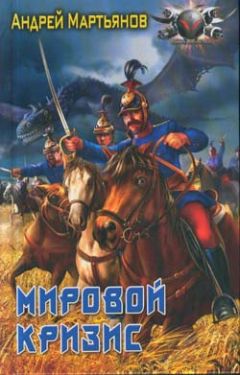Максим Кустов - Кто и когда купил Российскую империю
Вышли из подвальчика, едва волочим переполненные потроха. По дороге к Почтовой площади случился еще один ресторанчик. Мой землячок, как только переступил порог, начал вертеть кончиком пояска. Завели нас в клетушку. Обратно питье, закуски. Спрашиваю Валентина насчет пояска. Он отвечает: “Если кручу в энту сторону, значит, накрывать в общей комнате, ежели в другую — значит, особо, в каютке”. Почекайбрат спрашивает: “Откуда у вас такая власть?” Он посмеивается: “Служба таковская”. Мы со взводным пожимаем друг другу ноги под столом. Решили, значит, жидкости ни в какую, а закусок в соответствии с возможностью. Нагружаемся уже про запас, хотя бы дня на два. Собрались, а Горский хозяину помахал лишь ручкой. Нам говорит: “Ежели что надумаете, завсегда к вашим услугам, казачки. Ищите меня на пристани”.
Сытые, спали мы по-богатырски. А наутро что? Как сидели на мели, так и сидим. Кинулись на пристань до крючников, а взводный говорит: “Не нравится мне, товарищ сотник, твой землячок. Больше на его угощение не клюну, а ты, сотник, поступай, как хотишь, укору моего не опасайся. С тебя, с беспартийного, спрос по низшему разряду…”
— Да, у нашего камеронщика на все есть строгое понятие, — с восхищением выпалил Кикоть, — его наваристыми щами не купишь.
— На то он и шахтерского звания, — подтвердил Ротарев. — Не зря наш комиссар Климов и партийный секретарь Мостовой под маркой пособлять возле грузов прикомандировали его ко мне. Так вот, поработали мы со взводным ничего, получили на двоих один пай. Накупили провианту. А назавтра получился внезапный, можно сказать, конфуз. Давеча, когда разгружали баржу с вонючими шкурами, все шло гладко, а в тот день носили мы в трюм табачный товар. Какой-то медведь оступился, ящик с грузом полетел, раскололся — и пошла тут пожива. Почекайбрат облаял энтого, что оступился, даже как-то его обозвал. А тот, с толстым сизым носом, видать, спец по части самогонки, на взводного: “Барбосы вы, краснолампасники, нагаечники, царские охранщики, при старом режиме мучили народ и зараз не даете никому жить, кусочники, пришли отбивать наш кусок хлеба”. Наш взводный не стерпел. Заехал по морде обидчику. Поднялся шум. Которые грузчики вступились за нас, которые за побитого. Явилась милиция. Повели нас, рабов божиих. Заводят к районному. И кто бы вы, братцы, думали он? Сам Валентин Горский. Я прямо сомлел от внезапности, а он хоть бы что. Сидит, лыбится, накручивает на палец кончик пояска. Тут же вертится какой-то франт — брючки белые, пинжак синий, глаза черные, волос черный, усики черные. Горский подмигнул, тот поднял с головы соломенную шляпочку, прохрипел: “Привет рабочему классу”. Вышел.
“Оно, конечно, теперича время такое, что кулаками уже не мода размахивать, — сказал Горский. — Но этому барбосу ты, взводный, заехал законно. У них повсегда так: как в ящике интересный груз, они его кокают. А второе, бессовестная харя, — повернулся он к побитому, — кто бы мычал, а ты бы, подхорунжий, и помолчал, давно ли сбросил гайдамацкий жупан? Вон отсюдова, барбос”.
— А вас позвал в ресторан? — поинтересовался Ратов.
— Где там! — взмахнул рукой сотник. — “Знаю, — говорит он нам, — дело у вас затянулось. Сами виноваты. Теперича кинулись к береговой босоте. Очень уж вы деликатничаете с тем сахаром. И то скажите спасибо тому в соломенной шляпе, который только здесь был. Давно бы уркаганы расклевали ваш сладкий корм”.
Спрашиваем: “Кто он — главный милицейский чин?” Горский усмехнулся: “Энто главный киевский налетчик Мунчик”. А взводный говорит: “Я думал, что энтих паразитов, энтого элемента уже и нет на нашей земле, а если есть, то только в тюряге”. Горский присел на край стола и отвечает: “Вижу я, товарищи, крепко же вы отстали от жизни. Что такое нэп? Энто мир промежду советской властью и буржуазией”. Почекайбрат тут же перебивает милицию: “Не мир, а временное перемирие”. — “Пусть будет по-вашему, — говорит Горский. — Нэп, видишь ли, есть и перемирие милиции с преступным миром. Без этого, повторяю, давно уж уперли бы ваш сахарок. Мунчик дал своей бражке приказ — «не трожьте». Недавно на митинге у московского наркома «выгрузили» какие-то памятные часы. Вызвал я Мунчика. Прошли сутки — и пропажа вернулась к хозяину. Сейчас мы действуем по правилу: «Живи и жить давай другим»”. А наш взводный ему режет в глаза: “А наше правило таковское: пусть подохнут гады, чтобы люди могли жить”. Горский махнул рукой: “Так вот, советую вам по-дружески, заканчивайте поскорей вашу коммерцию. Никто не знает, долго ли быть перемирию. Как пойдет война между милицией и Мунчиком, не уцелеть вашему сахарку. Лежите вы на нем, как собака на сене — сам не гам и другому не дам”.
— Смотри, — осклабился трубач, — выходит, этот киевский Мунчик — птица на манер нашего Мишки Япончика…
— Попрощались мы, вышли на улицу, — продолжал Ротарев, — а там уже дожидался какой-то кустарь-ландринщик. Не терпелось ему завладеть нашим добром. Привел он настоящего мыловара, сторговались мы с ним — и баста. Возрадовались бесконечно, потому уже повсюду мерещился нам энтот чернявенький Мунчик. На остаток сахару — а его было целых три пуда — закупили со взводным все, что наметили…
— А что вы там еще накупили? — с нескрываемой ревностью спросил Кикоть. Ради того сахара и он потрудился немало. Таскал дрова для завода.
— Окромя мыла мы привезли кое-что поинтереснее… — загадочно продолжал уралец.
— За маклерство, наверное, отхватили себе по паре хромовых сапог? — неуверенно сказал Скавриди.
— Отхватили мы со взводным не по одной паре, а полный мешок обуви. И обувь эта особенная — сафьяновые чувячки. Казачата нашей “татарской сотни” шибко уважают сафьян. Окромя этого сто ученических досок привезли. С трудом напали на них. Излазили все базары, а нашли только в Святошино. Насчет энтой штуковины был нам особо строгий наказ Мостового. А сейчас через энто самое мне мои хлопцы, думаю, и тебе, Храмков, твои, и тебе, Кикоть, уши прожужжали. Во время переходов сидит энто в седле какой-нибудь будущий Пушкин, рисует грифелем на доске и все бубнит: Пе, и — пи, ше, у — шу… пишу…
Слушатели в ответ на сетования Ротарева дружно рассмеялись. Прерывая общий смех, Ратов задумчиво сказал, взглянув на сотника-уральца:
— А видать, Хрисанф Кузьмич, твой землячок не простой, а особенный тип. Не зря поперли его из корпуса. Давно по нему решетки скучают.
И действительно, вскоре Горский оказался в одной шайке с налетчиками и ворами и вместе с ними был расстрелян по приговору советского суда»[119].
Жизнь Советской Украины постепенно налаживалась…
Кавказ
Шлите николаевских денег
На Кавказе в 1920 году задачу установления советской власти красное командование поручило 11-й армии. В январе — марте 1920 года войска 11-й армии принимали участие в Северо-Кавказской операции и заняли район Ставрополя, центральную и восточную части Северного Кавказа.
В конце апреля 1920 года 11-я армия совместно с Каспийской флотилией провела молниеносную Бакинскую операцию, в результате которой в Азербайджане была установлена советская власть. В конце ноября 1920 года 11-я армия начала Эриванскую операцию, в ходе которой советская власть была установлена в Армении, в феврале — марте 1921 года — в Грузии.
Характерным признаком наступательных операций красных на Кавказе было широкое использование, скажем так, финансовых возможностей перед началом наступления.
Хаджи-Мурат Мугуев, сотрудник политотдела 11-й армии так описал спецпоручение, которое он выполнял в тылу у белых, на Кизлярщине. Его послали к действовавшим там красным партизанам, чтобы снабдить их деньгами:
«Из камышовых трущоб (река Терек у Кизляра. — Авт.) и зарослей появляются люди. Они с жадным любопытством окружают землянку, в которой нас разместили, теснятся у входа, заглядывают в нее. Среди них несколько женщин, некоторые с грудными детьми. Это жены красноармейцев, бежавшие сюда вместе с мужьями от карательных экспедиций врага.
Камышане ходят вокруг землянки, взволнованно обсуждают появление “комиссара” из Астрахани. Им кажется, что следом за мною идет вся 11-я армия и их мытарствам и мучениям пришел конец. Им хочется расспросить, разузнать, поговорить обо всем, что так волнует. Каждый из них желает что-то лично сказать мне, пожаловаться на трудности, рассказать о зверствах белогвардейцев. Людей появляется все больше.
Это не очень мне нравится. Кто знает, может, среди сотен камышан есть и осведомители противника, специально засланные сюда контрразведкой.
Я прошу Сибиряка (это один из руководителей камышан) дать мне отдохнуть. Не хочется, чтобы вся эта масса видела меня. Ведь впереди еще сложный и опасный путь по тылам неприятеля.
— Расходись, товарищи, по своим шалашам и землянкам! — командует Сибиряк, выходя к собравшейся толпе. — Дайте же отдохнуть человеку — шутка, что ли, с самой Астрахани пешком шел. Отдохнет, сколь надо, и выйдет.