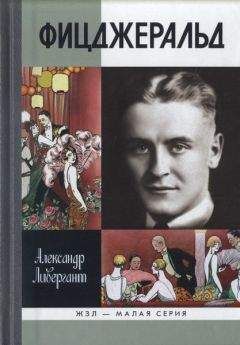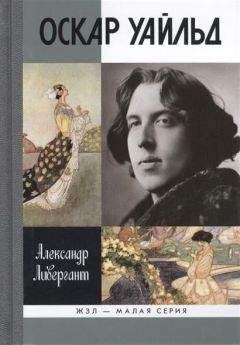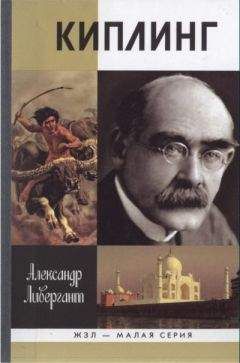Александр Ливергант - Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей
Более всего на свете мне бы хотелось быть сейчас подле Вас: я только что закончил очередной том Шенди и горю желанием прочесть его той, кто сможет оценить юмор и им насладиться, что, с моей стороны, является некоторой наглостью, ибо я считаю само собой разумеющимся то, что его величеству читателю предстоит еще подтвердить. Впрочем, мне довольно будет лишь Вашего мнения. Хотите знать мое? Готов поделиться им с Вами при условии, что Вы оставите его при себе. Знайте же, что, на мой взгляд, книга эта очень смешна и юмор в ней соседствует с сервантовой сатирой, трудно даже сказать, чего в ней больше, — а впрочем, не нам судить детей наших.
Возвращаю Вам тысячу благодарностей за Ваши дружеские поздравления в связи с моей обителью {177}; я позабочусь, чтобы впредь ничего, кроме доброго здоровья, желать мне было нечего.
С величайшим уважением и самыми искренними чувствами
премного обязанный Вам
Л. Стерн.
P. S. Это письмо писалось так неряшливо и поспешно, что, боюсь, Вам придется нести его к дешифровщику. <…>
Джону Холлу-Стивенсону {178}
Коксуолд, июнь 1761
Дорогой Холл,
я рад, что Вы в Лондоне — оставайтесь там с миром; дьявол — здесь. Вы оказались хорошим пророком: мне хочется вернуться обратно / в Лондон. — А.Л./, как Вы мне и предсказывали, — и не потому, что с башни Безумного замка прямо на меня, оказавшегося в этом Богом забытом месте, дует премерзкий северо-восточный ветер (северо-восточный ветер со всей его мощью я в грош не ставлю!), а потому, что переход от быстрого движения к абсолютному покою был чересчур резким. Прежде чем уединиться в своем коттедже, мне следовало, в качестве промежуточного этапа, дней десять прогуливаться по улицам Йорка; я же пробыл в городе минуту-другую, да и здесь немногим дольше и не сумел, как подобает человеку мудрому, справиться со своими невзгодами, и, если б Господь мне в утешение не вселил в меня шендистский дух, который не позволяет мне больше одного мгновения думать на любую неприятную тему, я бы, наверное, слег и умер — да, умер… Я же — готов поставить гинею — уже через минуту буду веселиться и проказничать, точно мартышка, и разом позабуду все свои напасти. <…>
Сейчас холодно и промозгло, как могло бы быть в декабре (Господь же распорядился иначе), а потому я рад, что Вы там, где Вы есть и где (повторюсь) мне тоже хотелось бы быть. Бедность и разлука с теми, кого мы любим, — вот два несчастья, что более всего отравляют нам существование, — а между тем от первого я страдаю не слишком. Что же до супружества, то надо быть отпетым негодяем, чтобы жаловаться на судьбу, ибо жена моя — в отличие от мира — нисколько не осложняет мне жизнь; живи другой вдали от законной жены столько же, сколько я, это считалось бы несмываемым позором, — она же во всеуслышание заявляет, что ей привольнее жить без меня, причем заявление это она делает не в порыве гнева, а руководствуясь самым что ни на есть здравым смыслом, в основе которого лежит немалый жизненный опыт. Поскольку она очень надеется, что Вы сумеете договориться, чтобы в следующем году я повозил по Европе медведя {179}, сейчас Вы у нее в фаворе. Она уверяет, что человек Вы не глупый, хоть и склонный к шуткам; веселый малый, хоть и не без желчи; и (если не принимать в расчет любовь к женщинам) кристально честен… Итак, сейчас Вы отправляетесь в Рэнили, а я, разнесчастный, сижу, как сидел пророк в пещере, когда до него донесся крик: «Что ты здесь, Илия?» {180} В Коксуолде, впрочем, никаких голосов нет и в помине: если б не несколько овец, которых оставили в этой пустыне на мое попечение, я мог бы с тем же успехом (если не с большим!) находиться в Мекке. Кстати, почему бы нам с Вами, когда мы обнаружим, что можем, посредством перемены мест, бежать от самих себя, не совершить туда увеселительную поездку, прежде чем перебраться на постоянное местожительство в долину Иосафата {181}? <…>
Завтра утром (если не вмешаются небеса) сажусь за пятый том Шенди. На критиков мне наплевать: свою повозку я нагружу тем товаром, что Он мне ниспошлет, — пусть не покупают, если не хотят, их дело. Как видите, я настроен решительно: чем дальше от мира мы отходим и видим его в истинных размерах, тем больше его презираем. Каков образ, а? Да хранит Вас Господь!
Преданный Вам кузен {182}
Лоренс Стерн.
Дэвиду Гаррику
Париж, 31 янв. 1762
Мой дорогой друг.
только не подумайте, что, не написав Вам ни строчки за две недели пребывания в этой столице, я сотни раз не вспоминал Вас и миссис Гаррик и головой, и сердцем. Сердцем, сердцем! Ну уж, и сердцем, — скажете Вы… но я не стану тратить бумагу на badinage [69] с этой почтой — что будет со следующей, посмотрим. Итак, я здесь, мой друг, здоровье мое — Вашими молитвами — совершенно исправилось, зато с умственными способностями дело обстоит худо: голова идет кругом от всего, что я вижу, и от тех неожиданных почестей, которые мне оказываются. Тристрам, как выяснилось, известен здесь ничуть не меньше, чем в Лондоне, — по крайней мере, среди людей знатных и образованных; благодаря ему я принят в обществе — и это тоже, comme a Londres [70]. Я завален приглашениями на обеды и ужины на две недели вперед. Моему обращению к графу де Шуазель {183} дан ход, ибо моими делами занят не только мистер Пеллетьер {184}, который, кстати, шлет Вам и миссис Г. /Гаррик. — А.Л./ тысячи лучших пожеланий, но и граф Лимбург {185}: барон Гольбах дал гарантию, что во Франции я буду вести себя прилично, — не вздумай же безобразничать, мошенник! Этот барон, один из самых образованных парижан, великий хранитель умов и ученых мужей, коим ума-то как раз и недостает, устраивает приемы трижды в неделю: сейчас его дом, как прежде — Ваш, в полном моем распоряжении; живет он на широкую ногу. Забавно, что когда меня представили графу де Бисси {186} по его желанию, тот читал Тристрама: сей аристократ оказывает мне величайшие почести, разрешает в любой день и час проходить через свои покои в Пале-Руаяль. дабы насладиться картинами Орлеанского дома. Побывал я и у докторов Сорбонны… Из этого города, который по savoir vivre [71] превосходит все города мира, из этой сокровищницы уеду я никак не раньше, чем недели через две…
Собираюсь, когда допишу это письмо, отправиться с мистером Фоксом и с мистером Маккартни к мсье Титону {187} передать ему Вашу просьбу. Купил Вам памфлет о театральной, а точнее, трагической декламации {188}; посылаю Вам со слугой мистера Ходжеса еще один, в стихах, — почитать, по-моему, стоит.
Вчера вечером был с мистером Фоксом на «Ифигении» {189}, видел мадам Клэрон {190} — зрелище незабываемое: Вам бы парочку таких, как она: что за счастье было бы лицезреть Вас с такой великой актрисой на такой сцене! Куда там!.. Ах! Превиль {191}! Ты — сам Меркурий! Заказав пару лож, мы посмотрим на этой неделе «Француза в Лондоне» {192}, после чего Превиль зовет нас к себе ужинать, будут человек пятнадцать-шестнадцать знатных англичан, которые живут сейчас здесь и, представьте, отлично ладят. Все счастливы!
Я весьма обязан мистеру Питту {193}, который повел себя со мной, как человек благородного и доброго нрава… Со следующей почтой напишу снова… Фоли {194} — добрая душа… Я мог бы написать шесть томов о тех забавных эпизодах, которые здесь за последние две недели происходили, — но обо всем этом позже. Теперь же все мы в трауре {195}; ни Вы, ни миссис Гаррик никогда бы не узнали меня в этом наряде. Да благослови вас обоих Бог! Мои лучшие пожелания миссис Денис {196}. Прощайте, прощайте.
Джону Холлу-Стивенсону
Тулуза, 19 окт. 1762
Мой дорогой Холл, вчера получил Ваше письмо — оно, стало быть, странствовало из Безумного замка в Тулузу целых восемнадцать дней! Будь я волен в своих поступках, я бы выехал к Вам сегодня же утром и меньше чем через три дня стучался бы уже в ворота Безумного замка. <…> Что это Вы задумали с топорами и молотками? {197} «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое…» {198} Понимаю, ты спишь и видишь архитравы, фризы и фронтоны с их водоподъемным колесом, ты нашел предлог a raison de cinq cent livres sterling [72] возвести дом в четыре года и т. д. и т. д., чтобы не подумали (как всегда добавляет искуситель), что мы оправдываемся перед самими собой. Может, совершить подобное и очень мудро, но еще мудрее, покуда за стенами наших домов воюют, а в стенах о войне судачат, держать деньги в кошельке. Святой… советует своим ученикам продавать одежду, верхнюю и нижнюю, — и лучше идти в Иерусалим без рубахи и меча, чем опустошить суму {199}. Так вот, мой дорогой Антоний, quatres ans consécutifs [73] — это самые аппетитные кусочки твоей будущей жизни (в этом мире), и было бы правильно насладиться этими кусочками без забот и расчетов, без проклятий, ругани и долгов — это и будет твоим покаянием, и это так же верно, как то, что камень это камень, а известковый раствор — это известковый раствор. В конечном ведь счете, раз судьба решила, как мы с Вами и предполагали в связи с Вашей расточительностью, что Вам никогда не быть человеком с деньгами, решение это — окончательное, будете Вы себе строить дом обширный {200}, или нет. Et cela étant [74] (передо мной на столе бутылка «Фронтиньяка» и стакан) я пью, дорогой Антоний, за твое здоровье и счастье и за выполнение всех твоих лунных и подлунных планов и начинаний. Мои же планы за последние полтора месяца, что я Вам не писал, были куда грандиознее Ваших, ибо все это время я, как мне казалось, перебирался в мир иной, заразившись ужасной лихорадкой, которая поубивала здесь сотни людей. Здешние врачи — самые отъявленные шарлатаны в Европе, самые невежественные из всех чванливых дураков; я вырвал поэтому то, что от меня еще оставалось, из их лап и целиком доверился даме по имени Природа. Она-то (моя обожаемая богиня) и вытащила меня с того света после пятидесяти чудовищных приступов лихорадки, и теперь я начинаю относиться к этой даме не без некоторого энтузиазма — да и к себе тоже. Если мне и впредь будет так же везти, то, скорее всего, я покину этот мир не в результате естественной смерти, а вследствие пресуществления. Итак, здоровью моему, а также глупости может позавидовать любой счастливый, и я сел валять дурака со своим дядей Тоби, которого влюблю по уши. Имеются у меня и другие планы и начинания, и всё, будем надеяться, сложится так, как мне бы хотелось. Когда закончится зима, Тулуза мне будет больше не нужна, а потому, съездив с женой и дочкой в Баньер, я вернусь обратно/В Англию. — А.Л./. Супруга же моя хочет из экономии провести здесь еще год, и подобный разнобой в пожеланиях, хоть и не будет кислым, как лимон, сладким, как леденец, не станет тоже. <…> Этот город /Тулуза. — А.Л./ ничуть не хуже любого другого на юге Франции. Мне же, признаться, он не по душе: основная причина моей ennui [75] — в приевшейся пошлости французского характера, в его бесцветности, неоригинальности: французы очень вежливы, однако вежливость эта в своем однообразии приедается и смертельно надоедает. Нет, надо за собой следить, а то я со своими рассуждениями глупею на глазах… Мисс Шенди /Лидия Стерн — А.Л./ вовсю занялась музыкой, танцами и французским, причем в языке она делает a merveille [76] и говорит с безукоризненным прононсом — и это притом, что практикуется вблизи Пиренеев. Если снегопад мне не помешает, то предполагаю провести два или три месяца в Бареже или в Баньере, однако моя дорогая женушка решительно противится любым незапланированным расходам; подобную склонность (пусть она и не носит деспотического характера) я допустить не могу — впрочем, склонность эта вполне похвальна. Что ж, пускай себе говорит, я все равно сделаю по-своему, и жена покорится, не сказав мне ни слова наперекор. Кто еще сделает столько комплиментов собственной супруге?! Таких, полагаю, найдется немного. Маккарти в городе нет, он отправился на сбор винограда, а потому пишите мне: Monsieur Sterne gentilhomme anglois [77], и письмо дойдет непременно. Мы здесь влачим совершенно бездумное существование, как будто живем на Острове Доброй Надежды, — так что пишите время от времени длинные, такие же бессмысленные письма и не говорите в них ничего между строк. (Я-то Ваше бойкое перо люблю, а вот другим оно может и не понравиться!) Знайте же: стоит из Англии прийти письму, как здешнее любопытство вооружается лупой.