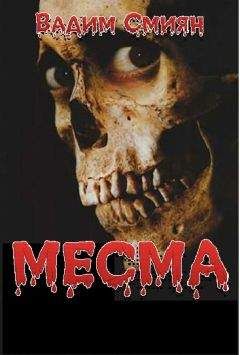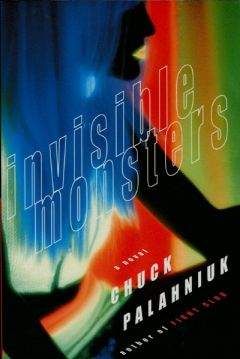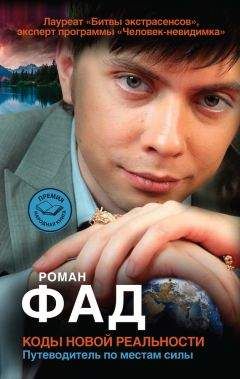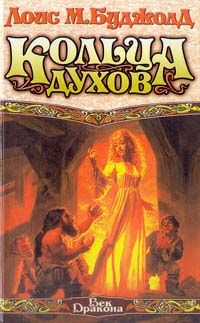Вольтер - Диалоги Эвгемера
Эвгемер. Сначала я вам отвечу по поводу свободы, а потом — по поводу справедливости. Быть свободным — значит делать все что угодно; но, разумеется, бог сделал все, что хотел. Он удостоил предоставить нам Долю той восхитительной свободы, коей мы пользуемся, когда поступаем в соответствии с нашей волей. Он простер свою милость столь далеко, что даровал эту привилегию всем живым существам, делающим то, Что они хотят, сообразно с пределами своих сил.
При том, что бог очень могуществен и весьма свободен, я не могу вам сказать, будто он свободен и могуществен безгранично: ведь вопреки всем утверждениям геометров я не знаю, что то такое — актуальная бесконечность. Я могу вам только сказать: бог не свободен делать немыслимое, ибо это означало бы противоречие в посылках; он не свободен сделать так, чтобы на двух сторонах Пифагорова прямоугольного треугольника можно было построить два квадрата, меньших или больших, чем квадрат, образованный наибольшей стороной, потому что то было бы противоречием, вещью немыслимой. Это почти тот же довод, что я вам уже приводил: бог весьма совершенен и не обладает свободой творить зло.
Что до справедливости, то вы будете очень смеяться надо мной, если я стану вам говорить о преисподней греков. Их пес Кербер, лаящий всеми своими тремя пастями, их три Парки, три Эвмениды являются столь смешными фантазиями, что над ними смеются дети. Бог не являлся мне, он не явил мне также Александра, гонимого тремя подземными фуриями за то, что он столь несправедливо расправился с Каллисфеном, и я не видел Каллисфена сидящим за одной трапезой с богом на десятом небе и пьющим нектар, подаваемый им Гебой. Бог дал мне достаточно разума, чтобы я мог убедиться в его существовании; но он не дал мне столь проникновенного взора, чтобы я мог увидеть происходящее на берегах Флегетона и в эмпиреях. Я сохраняю благоговейное молчание относительно кар, коими он казнит преступников, и наград, воздаваемых справедливым. Могу вам только сказать, что никогда не видел счастливого злодея, однако видел многих достойных людей весьма несчастными — это меня смущает и огорчает. Но эпикурейцы стоят перед той же трудностью, что и я. Они должны испытывать то же, что я, и так же, как я, стонать при виде довольно частого торжества преступления и добродетели, повергнутой к стопам порочного человека. И может ли быть столь утешительным для порядочных людей, какими являются истинные эпикурейцы, полное отсутствие надежды?
Калликрат. У этих эпикурейцев перед вами заметное преимущество: они не должны упрекать верховное существо, справедливого бога, за то, что он оставляет добродетель без помощи. Они признают богов только из чувства приличия, дабы не возмутить афинскую чернь; но они не делают их творцами людей, их судьями и палачами.
Эвгемер. Однако когда ваши эпикурейцы признают лишь бесполезных богов, занятых попойками и едой, разве они оказываются бОльшими друзьями людей? Разве они этим подводят более прочный фундамент под добродетель и лучше утешают нас в наших несчастьях? Увы! Что толку, что в небольшом уголке Сицилии живет маленькое сообщество двуногих существ, худо ли, хорошо ли рассуждающих о Провидении?
Для того чтобы понять, будем ли мы счастливы или несчастны после своей смерти, следовало бы знать, может ли остаться от нас что-нибудь чувствующее, после того, как все наши органы чувств разрушены, что-нибудь мыслящее, после того как мозг, в котором рождаются мысли, источен червями и вместе с ними обращен в прах; может ли какая-либо способность или свойство живого существа продолжать жить, когда этого существа уже нет в живых? Эту проблему до сих пор не могла разрешить ни одна секта; более того, ни один человек не может понять ее смысл. Ведь если бы во время обеда кто-нибудь спросил: "Сохраняет ли заяц, поданный нам на блюде, способность бегать? А этот голубь — может ли он и теперь летать?" — вопросы эти были бы совершенно нелепы и возбудили бы хохот. Почему? Да потому, что противоречие, невероятность бросается здесь в глаза. А мы уже довольно видели, что бог не может творить немыслимое, противоречивое.
Но если бы в мыслящее существо, именуемое человеком, бог вложил незримую и неосязаемую искорку, некий элемент или нечто более неощутимое, чем атом элемента, — то, что греческие философы именуют монадой, если бы эта монада была неразрушимой; если бы именно она в нас мыслила и чувствовала, тогда я не вижу, почему было бы нелепым сказать: эта монада может существовать и обладать идеями и ощущениями после того, как тело, чьей душой она является, уже разложилось.
Калликрат. Вы согласитесь, что, если изобретение этой монады и не совсем нелепо, оно все же очень рискованно; не стоит основывать свою философию на вероятностях. Если дозволено сделать из атома бессмертную душу, это право должно принадлежать эпикурейцам: именно они — изобретатели атомов.
Эвгемер. Действительно, я не выдаю вам свою монаду за доказательство; я предложил вам ее как греческую фантазию, позволяющую понять, хоть и не полностью, каким образом незримая и существенная частица нас самих может быть после нашей смерти наказана или вознаграждена, как она может парить в блаженстве или страдать от кар; правда, я не знаю, могу ли я с моими рассуждениями и допущениями найти справедливость в наказаниях, которые бог налагает на людей после их смерти, потому что в конце концов мне могут сказать: разве не он сам, создав людей, обрек их на зло? А если так, за что их наказывать? Быть может, существуют иные способы оправдать Провидение, но нам не дано их знать.
Калликрат. Значит, вы признаете: вы точно не знаете ни что такое душа, о которой вы мне толкуете, ни что за бог, коего вы проповедуете?
Эвгемер. Да, я очень смиренно и с большим огорчением это признаю. Я не могу познать их субстанцию, я не понимаю, как образуется моя мысль, не могу представить себе, как устроен бог: я — невежда.
Калликрат. И я также. Утешим же друг друга: все люди нам в товарищи.
Диалог пятый
НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ — ОНИ СТОЯТ НА КРАЮ ПРОПАСТИ
ИНСТИНКТ — ПРИНЦИП ЛЮБОГО ДЕЙСТВИЯ У РОДА ЖИВЫХ СУЩЕСТВ
Калликрат. Коль скоро вы ничего не знаете, я заклинаю вас поведать мне ваши предположения. Вы не объяснились со мной полностью. Сдержанность вызывает недоверие: философ, не обладающий чистосердечием, — не более чем политик.
Эвгемер. Я не доверяю лишь самому себе.
Калликрат. Говорите же, говорите! Иногда в случайных догадках кроется истина.
Эвгемер. Ну, что ж. Я догадываюсь, что люди всех времен и стран никогда не высказывали и не могли высказать ничего, кроме банальностей, по поводу всего того, о чем вы меня сейчас спрашиваете, и особенно ясно я догадываюсь, что нам абсолютно бесполезно быть осведомленными в этих вещах.
Калликрат. Как бесполезно?! Разве, напротив, не абсолютно необходимо знать, есть ли у нас душа и из чего она состоит? Разве не было бы величайшим наслаждением ясно узреть, что потенция души отлична от ее сущности, что душа — это все и что она полностью обладает качеством ощущения, будучи формой и энтелехией, как прекрасно сказал Аристотель? И особенно, что синэреза — это не обычная потенция!
Эвгемер. Все это, действительно, прекрасно. Но столь возвышенное знание для нас, очевидно, запретно. Видимо, у нас нет в нем необходимости, ибо бог нам его не дал. Мы, без сомнения, обязаны ему всем тем, что может служить нам проводником в этой жизни, — разумом, инстинктом, способностью давать начало движению, способностью давать жизнь существу нашего вида. Первый из этих даров отличает нас от всех прочих живых существ; но бог нам никоим образом не открыл принципа этого дара, значит, он не желал, чтобы мы его знали. {Святой Фома великолепно объясняет все это в вопросах 5-82 части первой своей «Суммы», но Эвгемер не мог этого предвидеть. — Примеч. Вольтера.} Мы не можем догадываться даже о том, почему мы шевелим кончиком пальца, когда того хотим, и каково отношение между этим маленьким движением одного из наших членов и нашей волей. Между тем и другим лежит бесконечность. Стремиться вырвать у бога его секрет, считать, будто мы знаем то, что он от нас утаил, — это, на мой взгляд, смехотворное кощунство.
Калликрат. Как! Я никогда не смогу узнать, что такое душа? И мне не будет даже доказано, что я таковой обладаю?
Эвгемер. Нет, мой друг.
Калликрат. Скажите же мне, что представляет собой наш инстинкт, о котором вы мне только что говорили. Вы сказали, что бог дал нам в распоряжение не только разум, но еще и инстинкт; мне кажется, это свойство обычно приписывают только животным и, по существу, даже не слишком хорошо понимают, что подразумевается под этой особенностью. Одни говорят: инстинкт — душа иного вида, нежели наша: другие верят, что это та же душа, но с другими органами; отдельные фантазеры утверждают, будто это всего только механизм; а что придумали на этот счет вы?