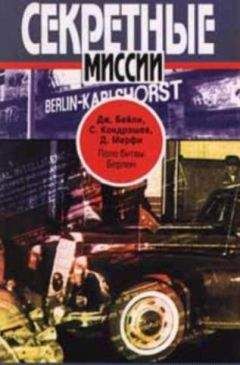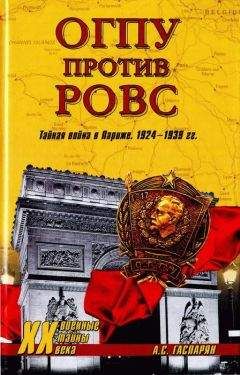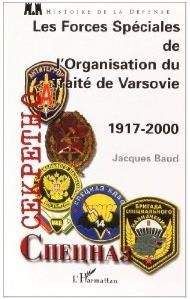Дмитрий Быков - Феномен Окуджавы
Еще более искусно прячет он их в «песенке о Моцарте». Совершенно очевидная реминисценция из псалма, где Бога просят не прерывать труда, не прерывать творения, продолжать творить мир, совершенно очевидным образом показывает, что слова «не оставляйте стараний, маэстро» обращены не к Моцарту, а к Богу. И это же позволяет с большой легкостью снять главное противоречие. Галич недоумевал, как это можно одновременно держать руки у лба и играть на скрипке? Простите, на скрипке играет Моцарт, руку на лбу держит Бог – никакого противоречия здесь нет. Но, тем не менее, эта достаточно очевидная мысль читателю Окуджавы не приходит в голову. Читатель Окуджавы свято уверен, что не может простой советский грузин вот так вот взять и реминисцировать псалом.
Может. Может очень многое. И культурный слой, к которому отсылается Окуджава, на самом деле огромен. И, наверное, точнее всех сказал о нем Солженицын в одной из своих заметок: «Как мало слов и как широко забирает!» Удивительное умение Окуджавы ничтожным количеством слов забрать чрезвычайно широко и вызвать огромное количество ассоциаций принадлежит к числу очень немногих и драгоценных литературных умений, которые никто имитировать не может. Можно написать стихи «под Окуджаву», но абсолютно невозможно, как Окуджава, задеть такое количество старых струн. Потому что для того, чтобы их задеть, надо, во-первых, точно чувствовать свою аудиторию, примерно понимать ее коды. А, во-вторых, очень много перенести, потому что в жизни нашей мы, как ни странно, вспоминаем стихи только в те минуты, когда они совпадают с нашим внутренним состоянием, иначе мы поэзию не помним, она нам не нужна. Так вот, Окуджава много помнил, потому что много пережил. И это, может быть, один из рецептов его лирики, в которой мы, так или иначе, узнаем себя.
Почему люди в зале плачут, когда это слушают? Потому что они смотрят на свою жизнь со стороны и видят ее жалкой и все-таки прекрасной. На этом контрасте она их бесконечно умиляет.
Ближе к концу хотел бы вспомнить (я специально взял книжку не для того, конечно, чтобы себя же цитировать, а чтобы процитировать гораздо более интересного автора), я хотел бы вспомнить одну из самых точных, самых удивительных статей о творчестве Окуджавы. Сам Окуджава, естественно, о ней всегда отзывался с ужасом. Это знаменитая статья Игоря Лисочкина, с которой началась сильная и интенсивная травля Окуджавы. Статья насквозь ругательная, но, тем не менее, если немножко изменить ее модальность, если убрать негодующий тон, можно увидеть, что она написана человеком, любящим песни Окуджавы и хорошо их понимающим. Окуджаву, кстати, больше всего и возмущало то, что автор написал это по заказу газеты, хотя сам его песни любил, они были у него на пленке, он их коллекционировал, внимательно слушал и знал наизусть. Его возмутило предательство «своего». Лисочкин тоже воевал. Лисочкин ведь не упрекает его в незнании жизни, в клевете на фронт, как многие потом, он упрекает его в эклектике, а это то самое, за что следовало бы похвалить.
Вот посмотрим, что, собственно, говорит Лисочкин: «Творчество Окуджавы отличается в целом от того, что в частности, как день от ночи. О какой-либо требовательности поэта к себе говорить не представляется возможным: былинный повтор, звон стиха крепких символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора – здесь перемешано все подряд». Надо бы сказать: «Балда! Это прекрасно! Это единственное, к чему должен, по большому счету, стремиться всякий поэт». Возьмите любой текст Цветаевой, где тоже перемешано: и былинный распев, и гитарные переборы, и классическая строгая лирика петербургской школы – и порадуйтесь тому, как человек умеет петь на разные голоса, создавая, сплетая эти струны в общий провод многожильный, в общую мелодию жизни. «Добавьте к этому толику любви, портянок, пшенной каши (а что есть на свете, кроме любви, портянок и пшенной каши? В трех словах – вся военная лирика), диковинных нутряных ассоциаций (а что есть поэзия как не умение извлечь эти нутряные ассоциации?) метания туда и обратно, правды-матки, и рецепт стихов готов. Как в своеобразной поэтической лавочке – товар есть на любой вкус, бери, что нравится, может, прихватишь и что сбоку висит».
Вот здесь дан гениальный рецепт настоящей поэзии, потому что гений – это и есть тот, который везде берет свое и находит, где бы оно ни находилось. Эта статья точнейшим образом характеризует Окуджаву. Его эклектичность кажущаяся, его зависимость от городского романса, от лирики Серебряного века, от синкопированной ритмики Маяковского, которого он очень любил в 40-е годы, – все это создает тот хор жизни, тот ровный ее гул, который мы в каждой строчке Окуджавы узнаем.
Заметьте, это удивительное сочетание абсолютно фольклорной интонации, скажем, в той же «Наде-Наденьке», и абсолютно модернистской рифмы «гривами//..мне б за двугривенный…» — пожалуйста, все это есть. И ассонансы есть, и чрезвычайно свободная метафора есть. Это фольклор ХХ века, фольклор человека с очень высокой поэтической техникой – это еще одно противоречие, еще одна амбивалентность, на которой все стоит.
Мне хотелось бы в завершение вернуться к одному из стихотворений Окуджавы, которому как-то не очень повезло. Его сейчас редко вспоминают. А мне бы хотелось вспомнить его в силу довольно простой причины. Это стихотворение 1964 года, вышедшее в «Веселом барабанщике». Точнее, опубликовано оно в 1964, а написано предположительно в 1962, как вспоминает Ольга Владимировна. Стихотворение, которое называлось «Как я сидел в кресле царя». Давайте его вместе вспомним.
Век восемнадцатый. Актеры
играют прямо на траве.
Я – Павел Первый, тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу.
«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам…
Я отменяю все парады…
Чешите все по кабакам…
…смахнем царя… Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям – —
мне самому они приелись…
Я поведу вас сам… Я сам…»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Но нет, нельзя. Я ж Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
Стихотворение это в 1962 году написано по совершенно понятным мотивам. Не просто потому, что Окуджава переехал в Ленинград к новой жене, не просто потому, что он часто бывал в Павловске, и ему легко было представить, как актеры играют прямо на траве. Про другое речь. Речь идет о том, как интеллигенция в надежде смотрит на представителя власти: вот-вот, сейчас он – да? – жандармы все мне приелись, – да? – «я сам вас поведу». Больше того, дальше там замечательный идет такой инновационный монолог:
…Я зрю сквозь целое столетье…
Я знаю, ч т о я говорю!"
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Да мне ж нельзя. Я – Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.
Уже тогда это было абсолютно точным сигналом для всех, кто ждал от власти самосвержения, самореформирования. В 1962 году были такие наивные люди, которые думали: да ну, они ему не дают, они его связали по рукам и ногам… Нет. Нельзя. От Павла I нельзя ничего дождаться.
Мы и сейчас вспоминаем это стихотворение, я думаю, со сходными чувствами, особенно после 18 мая. И это особенно принципиально вот почему. Здесь есть опять-таки та удивительная фольклорная амбивалентность, которая и делает Окуджаву гением: удивительная смесь сострадания и презрения, легкого умиления и легкой же брезгливости. Здесь абсолютно четко сформулировано его отношение к любому идеализму, который он всегда считал все-таки уступкой слабости. Не обольщаться – главное, что мы должны, видимо, усвоить. И я думаю, что сейчас из всех песен Окуджавы пришло время чаще вспоминать «Надежду Чернову».
Меня эта песня всегда очень озадачивала. Поэтому о ней был первый мой вопрос при первом более или менее нормальном разговоре с Окуджавой, когда он позвал маньеристов к себе на дачу. Первый вопрос, который я задал, чудовищно робея и, разговорившись несколько только после водки, потому что вид живого Окуджавы, при всей простоте его облика и манер, всегда внушал ощущение, что рядом с тобой ударила молния – то, что Блок называл «молнией искусства». Я, страшно робея, спросил: а кто, собственно, такая Надежда Чернова? Мне всегда казалось, что это какой-то загадочный партийный функционер, о котором я, может быть, не знаю. Ну, помните, конечно…
Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, все начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет вас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Вот это загадка. На что Окуджава сказал просто и несколько виновато, что, может быть, это не очень ясно получилось, но имелась в виду черная надежда – символ отечественной безнадеги, надежда, которая черна. Это уж только потом я понял, что вопрос мой был глуповат, потому что Надежда Чернова – это настоящая фамилия Надежды Дуровой, кавалерист-девицы. Дурова – это девичья, а в замужестве она была Чернова. Отсюда и образ кавалерии, который тут возникает, потому что Окуджава, как специалист по пушкинской эпохе, конечно, это знал. Но то, что это символ безнадеги – Надежда по фамилии Чернова – вот здесь, пожалуй, выражена вся оксюморонность, вся амбивалентность и вся обоесторонность, по-солжениценски говоря, окуджавовской поэзии. Всегда надежда и всегда черная. И, может быть, именно поэтому символом нашей эпохи, может быть, и любой российской эпохи, и некоторым таким кредо следовало бы сделать куплет из этой песни, точнее, припев.