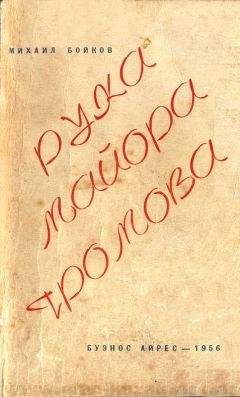Михаил Бойков - ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ
Среди 108 подследственных — 56 коммунистов, 23 комсомольца, а остальные беспартийные. Из смешанной, а вернее стиснутой воедино массы людей выделяются три группы: 8 мелких уголовников, 12 колхозников и 14 евреев, работавших в советской торговой сети. Впрочем, этот состав не постоянный. Почти каждый день в камеру приходят люди или уходят из нее. Сведения, вышеприведенные мною, взяты лишь за три дня: с 15 по 17 декабря 1937 года…
Уголовники, которые, как и многие вообще в камере, уважают и боятся Петьку Бычка, хотели избрать его своим вожаком, но он, в ответ на их предложение, сердито рявкнул:
— Шпанским паханом я никогда не был и не буду! Отскочь!
Дружеские отношения Петьки ко мне вызывали у них зависть и недоумение. Они не могли понять, как это знаменитый "король медвежатников" может дружить с каким-то "задрипанным каэром"…
По "составу преступлений" обитатели общей подследственной — это мелочь вроде меня, из которой энкаведисты хотят сделать крупных "врагов народа", яко5ы состоявших в разнообразных контрреволюционных организациях.
Друг друга подследственные называют "соузниками", но "соузничества "и "союзничества" среди них совсем мало, и Петька вполне прав, когда высказывает свое недовольство камерой в весьма резких выражениях.
Прежде всего, в общей подследственной нет единства, такого, какое, например, было в описанных мною камерах "настоящих" и "социально-близких". Вместо этого, ярко процветают наихудшие виды индивидуализма и эгоизма. Каждый старается добиться чего-то, хотя бы какой-то мелочи для себя за счет другого. В лучшем случае заключенный к "соузнику" относится, как к чужому человеку, а в худшем — осуществляет на практике древне-римскую поговорку: "Человек человеку волк". Основа камерной морали выражена формулой, творцами которой является коммунистическое большинство подследственных:
— Скорее ешь соседа, пока он тебя не съел. Коммунистам принадлежит авторство и другого выражения, прочно вошедшего в быт камеры:
— Совесть — понятие растяжимое, а честностью в тюрьме не проживешь.
Эти аморальные правила не признают лишь несколько заключенных, верующих в Бога и еще не совсем утративших чувства человечности. Они каждый День молятся Богу и стараются не обижать "соузников", а иногда даже и помогают им.
Почти половина камеры состоит из "признавшихся во всем". Между ними и непризнающимися существует жесточайший антагонизм. Первые ненавидят последних за то, что они "смеют не признаваться", а последние завидуют первым, получающим от следователей "поощрительные премии" в виде хлеба, колбасы» сахара и папирос. По указаниям следователей, "признавшиеся" ведут среди непризнающихся постоянную и очень назойливую агитацию. Весь день в камере звучат такие, например, фразы:
— Ну, чего ты, дурак, не признаешься? Ведь все равно показания из тебя выбьют. Выхода, браток, нет. Крышка нам всем. Так зачем тянуть? Если ты сам признаешься без боя, то и следователь к тебе будет хорошо относиться и срок заключения получишь маленький. Признаваться надо, браток. Вот, к примеру, я… и т. д., и т. п.
Впрочем, "признавшиеся во всем" недолго задерживаются в общей подследственной. Через 10–15 дней после "признаний" их переводят в камеры осужденных, отправляют на суд или в концлагери решениями троек НКВД.
"Подкидышей", т. е. специально подсаженных энкаведистами сексотов, в камере нет, но зато много добровольных "стукачей", готовых за ломтик колбасы или папиросу донести следователю на любого "соузника".
Язык, на котором говорят в камере, лишь отдаленно напоминает русский. Он состоит из смеси двух жаргонов: советского и уголовного, щедро пересыпанных многоэтажной руганью, с обязательным упоминанием чужих матерей…
На "воле" советская власть усиленно пропагандирует коллективизм и душит индивидуализм. В тюрьме энкаведисты жестоко преследуют всякое проявление коллективизма и усиленно насаждают индивидуализм. Что это? Парадокс? Нет. Для тюремной системы НКВД это вполне естественно и необходимо. Самого сильного духовно и физически одиночку сломить легче (за исключением отдельных случаев), чем даже небольшую, но дружную группу арестованных, состоящих из людей средних по силам духовным и физическим.
Поэтому заключенным внушается и следователями и надзирателями:
— Каждый из вас может говорить или просить только от своего имени. За попытку коллективных действий — карцер.
Старосте энкаведисты постоянно повторяют:
— Вы обязаны следить в камере за порядком, под» считывать людей перед поверкой, распределять пайки и места для спанья. О непорядках доносить нам и никаких коллективных действий среди заключенных не допускать.
Общая подследственная, при широко развитом в ней эгоистическом индивидуализме, все же иногда действует сообща, вопреки всем наставлениям энкаведистов. Это бывает, если в каком-либо внутрикамерном вопросе заинтересованы вся камера и каждый заключенный в отдельности. К подобным вопросам относятся связь с Другими камерами, хранение запрещенных в тюрьме предметов, развлечение заключенных устными рассказами и т. д. Однако и здесь не обходится без "стукачей". Они доносят следователям обо всем, что делается в камере.
Особняком от остальных заключенных держатся колхозники, евреи и уголовники. У них есть кое-какая сплоченность, взаимопомощь и товарищеское отношение друг к другу. От этого каждый член их групп только выигрывает.
Таких камер, как наша подследственная, в ставропольской тюрьме больше двадцати. По терминологии энкаведистов, они называются "камерами обезволивания". Их назначение — медленно сломить волю и физические силы человека, превратить его в тряпку с притупившимися нервами и лишить способности сопротивления следователю.
Эта цель вполне достигается по отношению к большинству подследственных за 2–3 месяца. Для незначительного меньшинства людей с сильной волей или крепких физически требуются более длительные сроки. Отдельные, наиболее волевые и сильные субъекты вообще не поддаются "обезволиванию". Некоторые же подследственники, после переломного трехмесячного срока, "сживаются" с ненормальными условиями "камер обез-воливания" и вырабатывают в своем организме сопротивляемость им.
Средний заключенный бывает "подготовлен к любым признаниям" обычно за 2–3 месяца "обезволивания".
В течение этого времени он постепенно падает духом, слабеет физически, становится вялым, сонным, апатичным и равнодушным ко всему, за исключением еды и места в камере. О родных и "воле" вспоминает все реже, а своим следственным делом перестает интересоваться. На этой стадии "обезволивания" человеку уже все равно, что будет с ним дальше. Он медленно утрачивает образ и подобие человеческое, как бы теряет самого себя. Иногда все это приводит к острым психическим заболеваниям и покушениям на самоубийство.
Следует отметить, что и половые чувства у обитателей "камер обезволивания" подавлены в большей или меньшей степени. Разговаривают о женщинах там очень редко.
Как-то зимой 1938 года в нашу общую подследственную явилась медицинская комиссия управления НКВД для обследования санитарных условий жизни заключенных. Среди членов комиссии была довольно красивая, полная женщина лет тридцати. Заключенные смотрели на нее с лениво-апатичным любопытством, но без малейших признаков каких-либо вожделений и желаний. После ухода комиссии о ней говорили много, а о женщине — ни слова.
Кстати, эта комиссия ничем не улучшила наши "санитарные условия". Теснота и грязь у нас так и остались попрежнему…
"Камеры обезволивания" это один из методов физически-психического воздействия" энкаведистов на заключенных. Он входит, как составная часть, в "большой конвейер" пыток НКВД.
Глава 16 ДЕНЬ И НОЧЬ
Рано, очень рано начинается день в общей подследственной. По ту сторону решетчатого окна вьюжная мгла зимней ночи, часовые стрелки только что стали на цифру 5, а в тюремных коридорах уже оглушительно дребезжат звонки и, вслед за ними, раздаются громкие окрики надзирателей:
— Подъем! Подъем! Давай, вставай! Хватит спать! Вставай! Давай!
Четверо в камере не желают вставать. Сон сковал их. Натягивая тряпье на головы, они стараются заглушить назойливые звонки и крики. Око надзирателя, через дверное "очко", замечает лежащих. В ту же секунду гремит железная дверь и надзиратель врывается в камеру.
— Эт-та, что такое? Отдельной побудки вам? В карцер захотели? Встать! — набрасывается он на спящих. Те медленно, нехотя поднимаются. Надзиратель шарит глазами по камере.
— Староста!
— Тут я, — откликается из своего угла Фома Григорьевич.
— Почему у тебя заключенные спят после подъема?
— Не стану же я их, однако, силком за шиворот поднимать.
— Должен докладывать нам про всякий непорядок.