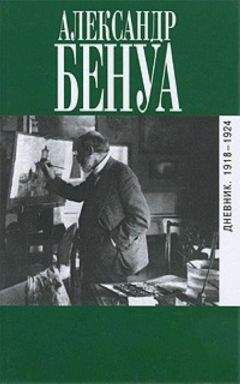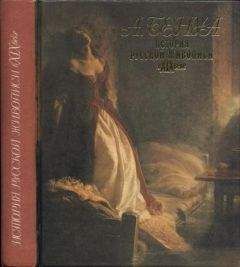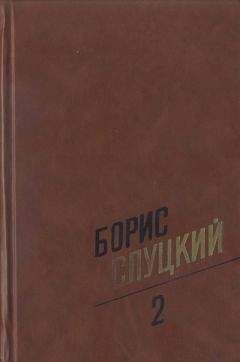Борис Носик - С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом
Многие были согласны с Бенуа, однако тем временем знаменитый Абрам Эфрос все же объявил чехонинский стиль «советским ампиром». Впрочем, как отмечают более поздние наблюдатели, в частности, Э. Кузнецов, Эфрос поспешил со своим приговором:
«… едва только грезы о раздувании мирового пожара рассеялись, и империя начала застывать на одной шестой земного шара, чехонинский стиль сделался анахронизмом».
Э. Кузнецов относит этот спад чехонинского первенства к 1925 г., а к 1928 г. «застывание империи», видимо, стало казаться талантливому певцу империи угрожающим, и он попросился в Париж, на выставку, с которой, вероятно, не намерен был возвращаться, хотя и не спешил объявлять о своих намереньях.
Об эмигрантских годах чуть не всех художников, обретших славу еще на родине, принято писать в тоне драматическом или даже трагическом. Но насколько известно, ничего трагического до самого 1936 г. с Чехонином не случалось. В год приезда в Париж он выставлялся в Осеннем салоне, в салоне ювелира А. Маршака на роскошной рю де ла Пеэ (соединяющей площадь Оперы с плас де ла Конкорд), в галерее Ль’Ирондель (вместе с Р. Фальком, Н. Альтманом и своим пасынком Петром Вычегжаниным, позднее избравшим псевдоним Пьер Ино), на русской выставке в Брюсселе. Выставки его в Париже, в Копенгагене, в Берлине и в Белграде проходили и в последующие годы. Чехонин оформлял спектакли для балетной труппы Веры Немчиновой, для «Летучей мыши» Балиева. К тому же он был умелый мастеровой, а в Париже, вдобавок ко всем своим навыкам, освоил еще эмаль.
Он работал для журнала «Вог», выполнял самые разнообразные заказы — работы хватало. Писал он и портреты — портрет советского полпреда, три портрета Горького (один из них есть в необъятной коллекции француза Рене Гера, и коллекционер утверждает, что Чехонин сделал Горького похожим на Сталина, — вероятно, в те годы обоих великих деятелей еще радовало такое сходство).
В 1933 г. Чехонин взял патент на способ многоцветной печати на ткани с одного цилиндра ротатора. Пишут, что переговоры об использовании изобретения в СССР не увенчались успехом. Может, советские власти хотели, чтобы Чехонин вернулся, или просто не хотели ему платить. Какая-то швейцарская фабрика под Базелем построила установку по чертежам Чехонина, но во время первых испытаний изобретатель скоропостижно умер. Один из видных русских искусствоведов считал, что Чехонин был «убит при загадочных обстоятельствах» (см. журнал «Новый мир искусства N 2 за 1998 г.). Подобное предложение мало кого может удивить. В ту же пору был зарезан в Париже (а не в тихом заштатном Леррахе) мирный банкир-невозвращенец товарищ Навашин, так что и невозвращенца товарища Чехонина, который рисовал гербы, деньги и самого Ленина, а теперь что-то там изобретает для врагов пролетариата, люди товарища Ягоды вполне могли замочить…
Но вернемся из области мрачного загрантеррора в привлекательную сферу росписи фарфора, на один из двух возглавленных Сергеем Чехониным в 1918 г. фарфоровых заводов, куда в том же 1918 г. пришла трудиться будущая жена Ивана Билибина красивая художница Александра Щекатихина-Потоцкая. Как мы уже упоминали, с приходом С. Чехонина на завод былой императорски-монархический и эксплуататорски-буржуазный фарфор стал воистину «пролетарским фарфором» (так его и зовут по сю пору, хотя тарелки эти стоят по миллиону рублей и больше, что впрочем, вполне по плечу новорусским пролетариям).
На заводе работали вместе с Александрой Щекатихиной и Чехониным некоторые вконец «левые» художники-авангардисты (вроде Белкина), и хотя их авангардистская «левизна» отчасти влияла на самого великого Чезонина, главное направление задавала все же его рука, о которой Э. Кузнецов пишет так:
«Та же твердая рука, что раньше выводила изящные гирлянды, розы и объятия обнаженных красавиц с чертями, наносила на тарелки и блюдо эмблемы и аббревиатуры новой власти и чеканила (в этом слове невольно слышится двусложное название того, на чем держалась власть коммунистов: чека — Б.Н.) афоризмы — от нужно расплывчатого «С высоких вершин можно раньше узреть зарю нового дня, чем там, внизу, среди сумятицы обыденной жизни» до деловитого «Кто не с нами, тот против нас» — в так называемом «агитационном фарфоре», который, как предполагалось, кого-то будет агитировать. Он выработал совершенно новый шрифт, непонятно из каких источников выведенный, — острый, торчащий углами, стремительно несущийся, и претворил его во множестве вариантов — от самого утонченного до самого элементарного. Свои надписи он загибал в дуги, закручивал в спирали, сплетал их друг с другом, ломал и рассыпал обломки в лихорадочно прыгающем ритме — и все это с дерзкой изощренностью, порой превосходящей изощренность его прежних работ».
Итак. Вскоре после украшения Божьих храмов, всего через три года после своего панно «Михаил Архангел» деловитый революционер Чехонин пишет на тарелке безбожный лозунг: «Кто не с нами, тот против нас». Он вообще заговорил языком революционных лозунгов. Стало быть, был опьянен революцией? А, может, просто деловой был мужик и не обращал внимание на тексты. Писал, что требуется.
Даже нынешние искусствоведы не спешат согласиться с этим грубым предположением. Они зачарованно и бессчетно повторяют слова «революционный», «революционное время», «революционная эпоха». Просят нас верить, что художники писали эти кровавые гадости (вместе с портретами Ленина и Зиновьева) «по зову сердца», охваченные «революционным подъемом» и «правдой мечты»:
«Тогда еще большевистское правительство не вмешивалось в искусство, — пишет маститый питерский искусствовед, — да и не имело никаких предпочтений. Новая эстетика рождалась еще свободно, на скрещении формальных исканий и наркотических идей революции, в которых испокон века верили свободолюбивые художники».
То есть, надо так понимать, что комиссары уже назначены были в искусстве, на за всем уследить они еще не могли (к тому же, подумаешь, комиссары — Луначарский, Штеренберг, Шагал, Пунин, Лурье, Альтман). Впрочем, у самых умных художников был к тому времени уже и «внутренний комиссар» (нечто вроде «внутренней цензуры», существующей при любом режиме), который мог подсказать, что им делать. Скажем, можно нарисовать на фарфоровой тарелке одалиску, девушку из гарема, из Бакста, из борделя, но написать на тарелке надо слова «Пробужденный восток», а рядом с округлостями одалиски уместен будет портретик тов. Зиновьева, большого друга свободы и революции. Именно такая фантазия и была изготовлена на знаменитом заводе.
Или, скажем, знаменитая тарелка с надписью «кто не работает, тот не ест». Всем известно, что не едят в Петрограде как раз работяги. Зато на этой гладоморной тарелке рука художника (тов. Адамович) невольно выводит милый сердцу лик тов. Ленина. И это объяснимо, потому что именно Вождь придумал организовать искусственный голод в Петрограде, чтоб тверже держать руку на горле пролетариев. А если ослабевшая головка в 1919 г. уже и кружится у петроградского художника (пусть даже самого идеологически выдержанного), то это не от «наркотических идей революции», а от голода. Однако, слава «пролетарскому фарфору», — никто, кажется, не сдох из работавших на заводе. Разве что вот у коллеги тов. Щекатихиной (автор тарелок «Комиссар… Площадь Урицкого», «Коммуна», блюда «Да здравствует 8-й съезд Советов») помер муж в те года, совсем молодой, веселый, красивый мужик, Николай Потоцкий. Русский это сможет понять: не всякий выживет при такой голодухе. Французам-то в далеком Париже (самому Анатоль Франсу) приходилось позднее эти дела как-то объяснять. Однако, на счастье, всегда находился и в Париже кто умел объяснить. К тому же объясняющий товарищ Арагон с товарищ Эльзой доказывали, что пусть лучше сдохнут несколько миллионов идиотов, чем сорвутся планы ЦК. Русским же это и объяснять не надо было: они уже привыкли людей хоронить без счету в несчастном городе Петроград-Ленинграде. Вот только вдова осталась с мальчонкой у Коли Потоцкого, жаль, конечно, но ей пускай Горький поможет: Горький, Чуковский, Добужинский, они какой-то для бедолаг Дом искусств придумали устроить в доме купца Елисеева — для этой вконец оголодавшей интеллигенции. Туда ее с мальчонкой и пристроили, Александру Щекатихину.
Лет 80 спустя тогдашний мальчонка, а в старости смотритель музея в маленьком Иван-городе, что на границе с Эстонией, вспоминал вечно раздраженного Ходасевича, который был их соседом в Доме искусств, и ласковую к нему, мальчонке, Ахматову.
Сам же упомянутый выше Ходасевич вспоминал, что комнаты в этом доме Елисеева «отличались странностью формы». Та, которую дали Щекотихиной, была отчего-то круглая.
«Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, была совершенно круглая, без единого угла, — окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки».