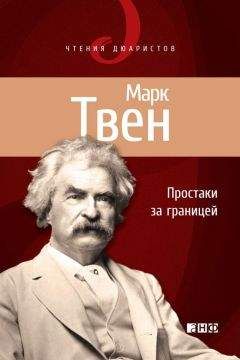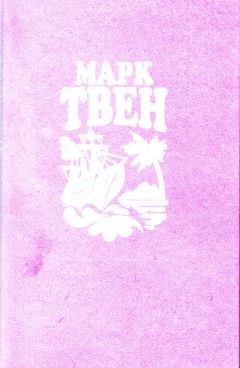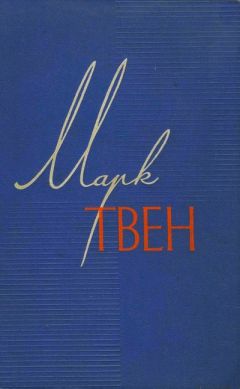Марк Твен - Простаки за границей или Путь новых паломников
Считается, что Пизе больше трех тысяч лет. Она принадлежала к двенадцати великим городам древней Этрурии — государства, которое оставило столько памятников, свидетельствующих о его необычайно развитой культуре, и почти не оставило сведений, позволяющих разобраться в его истории. Пизанский антикварий предложил мне старинный кувшинчик для слез, уверяя, что ему не меньше четырех тысяч лет. Его нашли среди развалин одного из древнейших городов Этрурии. Антикварий сказал, что это кувшинчик с гробницы и что в те незапамятные времена, когда даже египетские пирамиды были молодыми, Дамаск — деревней, Авраам — лепечущим младенцем, а о Трое еще никто и не помышлял, какая-то семья, понесшая тяжелую утрату, собирала в него слезы о дорогом умершем. Кувшинчик говорил с нами на своем языке, и его исполненная тихой грусти немая повесть о пустом месте за столом, о знакомых шагах, которые не зазвучат больше под родным кровом, об умолкнувшем любимом голосе, об исчезнувшем знакомом облике была красноречивее всяких слов и заставила нас забыть о длинном свитке столетий! Эта повесть, всегда для нас новая, неожиданная, страшная, надрывающая душу, — как давным-давно она известна! Никакое искусно изложенное историческое повествование не могло бы так живо воскресить, одеть плотью, сделать такими человечными мифы и тени седой старины, как этот маленький глиняный сосуд.
В средние века Пиза была республикой, имела собственное правительство, собственные армию и флот и вела обширную торговлю. Она была воинственной державой и начертала на своих знаменах много блестящих побед над генуэзцами и турками. Говорят, что население этого города когда-то достигало четырехсот тысяч человек; но теперь Пиза выронила свой скипетр, от ее армии и флота не осталось и следа, ее торговля умерла. Ее боевые знамена покрыты прахом и плесенью столетий, ее рынки опустели, она съежилась внутри обвалившихся стен, и от ее многочисленного населения осталось только двадцать тысяч. У нее сохранилось лишь одно отличие, да и то не Бог весть какое: она — второй город Тосканы.
Приехав в Ливорно, мы успели осмотреть все, что нас интересовало, задолго до того, как городские ворота были закрыты на ночь, и поспешили на свой корабль.
Нам казалось, что мы не были дома целую вечность. В первый раз мы вполне оценили, как приятно жить в нашей каюте, как замечательно обедать в своем салоне, сидя на своем месте и болтая с друзьями на своем языке. Какое счастье — понимать каждое сказанное слово и знать, что каждое слово, сказанное тобой в ответ, тоже будет понято! Мы заговорили бы друг друга до смерти, но из шестидесяти пяти пассажиров налицо было только десять. Остальные странствовали неведомо где. Мы не будем сходить на берег в Ливорно. Мы пока сыты по горло итальянскими городами и нам гораздо приятнее гулять по знакомой палубе, любуясь Ливорно издали.
Глупые ливорнские власти не могут поверить, что такой большой пароход, как наш, пересек Атлантический океан исключительно ради удовольствия путешественников, отправившихся в увеселительную поездку. Это кажется им слишком неправдоподобным. Они считают это подозрительным. За всем этим, по их мнению, скрывается что-то гораздо более серьезное. Они не могут этому поверить, а судовые документы для них не доказательство. В конце концов они решили, что мы — переодетый батальон мятежных, кровожадных гарибальдийцев! И они вполне серьезно предписали канонерке следить за нашим кораблем день и ночь и открыть огонь, чуть только будет замечено какое-нибудь революционное движение! Вокруг нас непрерывно патрулируют полицейские лодки, и если кто-нибудь из матросов покажется в красной рубашке, это, пожалуй, будет стоить ему свободы. Полицейские провожают лодку первого помощника от берега до корабля и от корабля до берега, бдительно выслеживая его черные замыслы. Они его еще арестуют, если он не уберет со своего лица выражение свирепости, крамолы и подстрекательства к мятежу. В дружеском визиге, который некоторые наши пассажиры нанесли вчера генералу Гарибальди (он их любезно пригласил), местные власти усмотрели подтверждение своих ужасных подозрений. Этот дружеский визит был сочтен маскировкой кровавого заговора. Когда мы купаемся в море около нашего парохода, полицейские подъезжают поближе и следят за нами. Уж не думают ли они, что на морском дне мы совещаемся с резервным отрядом гнусных сообщников?
Поговаривают, что в Неаполе мы можем попасть в карантин. Кое-кто из нас не хочет рисковать. Поэтому мы собираемся после отдыха отправиться французским пароходом в Чивита-Веккию, оттуда в Рим, а затем по железной дороге в Неаполь. Поезда не подвергаются карантину, откуда бы ни ехали пассажиры.
Глава XXV. Пышность железных дорог. — Богатства матери-церкви. — Церковное великолепие. — Роскошь и нищета. — Всеобщая мерзость. — Доброе слово о священниках. — Чивита-Веккия Унылая. — Едем в Рим.
В Италии мне очень многое непонятно. И особенно непонятно, откуда у обанкротившегося правительства такие роскошные вокзалы и несравненные проезжие дороги. Последние тверды, как алмаз, прямы, как стрела, гладки, как паркет, и белы, как снег. Даже в темноте, когда ничего не видно, белые дороги Франции и Италии все-таки можно различить; они так чисты, что на них можно было бы есть без скатерти. И все же с путешественников не взимают никаких дорожных сборов.
А железные дороги! У нас таких нет. Вагоны скользят плавно, как на полозьях. Вокзалы — просторные мраморные дворцы; величественные колоннады из того же царственного камня прорезают их из конца в конец, а огромные стены и потолки богато расписаны. Высокие двери украшены статуями, а широкие полы сложены из полированных мраморных плит.
Все это прельщает меня гораздо больше, чем сотни итальянских галерей, хранящих бесценные сокровища искусства, потому что в первых я разбираюсь, а для того чтобы по достоинству оценить вторые, я недостаточно компетентен. В проезжих дорогах, в железных дорогах, в вокзалах, в новых улицах, застроенных однотипными домами, которые появились во Флоренции и других городах, я узнаю гений Луи-Наполеона, или, вернее, подражание трудам этого государственного деятеля. Но Луи позаботился о том, чтобы Франция обладала основой всех этих улучшений — деньгами. В его казначействе всегда есть деньги, и его начинания укрепляют, а не ослабляют Францию. Ее благосостояние — не видимость, а действительность. В Италии дело обстоит иначе. Страна на грани банкротства. Для таких грандиозных работ нет опоры. Процветание, признаком которого они должны были бы являться, — фикция. У государства нет денег, и подобное строительство только ослабляет его. Италия добилась исполнения своего заветного желания — она стала независимой. Но, добившись независимости, она выиграла в политической лотерее слона. Ей нечем его кормить. Не имея опыта управления, она без толку транжирила деньги и опустошила казну во мгновение ока. Она выбросила миллионы франков на военный флот, который не был ей нужен, и в первый же раз, когда эта новая игрушка была пущена в ход, она, говоря языком паломников, взлетела к небесам.
Но нет худа без добра. Год тому назад, когда Италия очутилась на краю гибели, когда ее банкноты не стоили той бумаги, на которой их печатали, ее парламент решился на coup de main[86], перед которым при менее отчаянном положении отступили бы и самые неустрашимые ее политические деятели. Парламент практически конфисковал владения церкви! В поповской Италии! В стране, которая шестнадцать столетий бродила во тьме суеверий! Каким счастливым обстоятельством оказалась для Италии эта непогода, заставившая ее вырваться из своей темницы.
Это не называется «конфискацией» церковной собственности. Такое слово пока еще прозвучало бы слишком резко. Но по сути это именно конфискация. В Италии тысячи церквей, и каждая обладает миллионными сокровищами, скрытыми в ее подвалах, и полчищами попов, которых надо прокормить. А церковные владения? Плодороднейшие земли и лучшие леса Италии приносили церкви неисчислимые доходы, а государство не получало с них ни гроша налогов. Есть целые области, где церкви принадлежит всё — земельные угодья, реки, леса, мельницы и фабрики. Церковь покупает, продает, изготовляет товары; и раз она не платит налогов, кто может с ней конкурировать?
Теперь правительство уже наложило на все это свою руку и несомненно сурово и прозаически присвоит церковную собственность окончательно. Надо же как-то приводить в порядок расстроенные финансы, а кроме церковных богатств, других ресурсов в Италии нет. Правительство намеревается брать себе львиную долю доходов от церковных поместий, фабрик и прочего, а также взять на себя управление церквами и распоряжаться ими по своему усмотрению и на свою ответственность. Несколько самых почитаемых церквей сохранят прежнее положение, но в большинстве останется только горстка священников для произнесения проповедей и отправления служб, кое-кто получит пенсию, а остальных выставят за дверь.