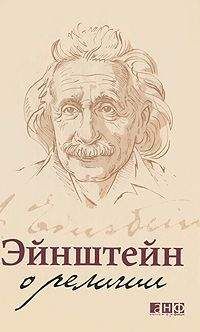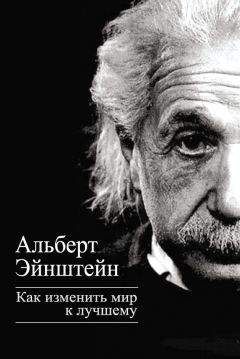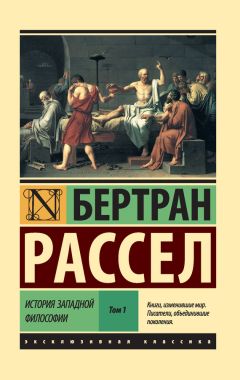Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
«Рукописи не горят». Но беда в том, что и «Иван Денисович», и романы Солженицына представляли бы тогда, наверное, куда более отвлеченный исторический интерес. Искусство долговечно, но все же в литературе «открытие» хорошо, когда своевременно, когда книга – часть живой жизни общества. Так что наша Троя напрасно гневается на своего Шлимана и еще укоряет, что тот не спешил открыть ее из курганов безвестности.
Конечно, сейчас самоощущение Нобелевского лауреата, на длительный срок приковавшего к себе внимание Европы и Америки, совершающего свои гастрольные турне и выступающего на торжественных банкетах в его честь, несколько иное. Он будто летит в бесконечном пространстве и спешит забыть, что первую космическую скорость дал ему журнал Твардовского. Без него он не одолел бы земного притяжения либо вовсе сгорел в плотных слоях атмосферы. Ему же чудится, что все его движение – и вчера, и сегодня – самодвижение его гения, предначертанный Провидением полет.
Дело в том, что с Провидением у Солженицына – самые доверительные и короткие отношения. С начала пятидесятых годов он окончательно уверовал в «Божье чудо» и «вложенную цель». Даже приспособляя к печати «Ивана Денисовича», он делал это по внушению свыше: «неизвестно для какой цели и каким внушением облегченный» «Щ-854» был передан им в редакцию. А неверующий Твардовский так и не догадался, что явился слепым орудием благого промысла, когда решил печатать повесть. И далее Солженицына в его действиях неизменно «поправляло Нечто», и обнаруживался в его жизни тайный смысл, открывая который, он сам «немел от удивления».
Да, с таким сознанием своего мистического предназначения, с таким мессианским ощущением в себе Божьего промысла – не заскучаешь. Отныне любой каприз мысли, любой политический экспромт, любое своевольное «хотение» можно счесть за тайный голос неба и всегда и во всем себя оправдывать. Удобное и весьма современное психологическое приспособление! Тут нет даже попытки, как у А.С. Хомякова, сделать возможную поправку на различие между «Божьим попущением» и «Божьим соизволением».
Все, что пишет и делает Солженицын, – мы должны знать это впредь, – соизволение неба и непогрешимый суд.
Вот только Бог Солженицына слишком мало напоминает христианского Бога с его заветами добра и самоотвержения. Скорее это то абстрактно почитаемое высшее существо, перед авторитетом которого склоняется в своих мирских целях Великий Инквизитор Достоевского. Кстати, и понятия те же – помимо авторитета – чудо и тайна. Чудо – как предначертанное свыше и въявь осуществленное Солженицыным дело его жизни. И тайна – как принцип личного поведения.
«Из моих собственных действий, – пишет автор «Теленка», – я за все годы не помню ни одного, о котором можно было бы говорить не тайно прежде его наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности» (с. 401–402). И что у Солженицына замечательно – не только от недругов тайна, но, по возможности, и от друзей, от союзников и единомышленников.
Не беда, что наитие не всегда указует верно. Рассердился Солженицын, что «Новый мир» давно его не печатает, побежал тайком от Твардовского в «Огонек» и «Москву». Побегал-побегал между кабинетами Мих. Алексеева и А. Софронова, возвратился ни с чем под «туповатую опеку» «Нового мира». Но своего унижения не простил и, на всякий случай, «Новый мир» же еще раз обругал: слишком долго держали его в «новомирских оковах», побежал бы к Софронову прежде, может быть, что и выгорело. Солженицын описывает все это без тени смущения на лице – ходит срам по чужим дворам.
«Они себя не слышат», – говорила в таких случаях Ахматова.
Но, прибавлю, зато наш автор видит себя, то есть всякий миг любуется собою в созданном им литературном зеркале. «…Я вижу, как делаю историю», – замечает он.
Это видение реализуется в деталях автопортрета. Вот герой входит в кабинет к Твардовскому: «Я вошел веселый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный». Вот появляется на Секретариате в Союзе писателей: «…с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им». Так в литературных мемуарах о себе, кажется, еще не писали.
Солженицын не сомневается, что в своих отношениях с «Новым миром», как, впрочем, и во всех других случаях, всегда бывал прав, и это самое слабое место мыслителя, желающего продемонстрировать свою силу. Более того, если что-либо в его сегодняшнем восприятии не сходится с минувшим и прожитым, он вычеркивает это из памяти и на бумаге. Его должны были бы немного смущать те признания, какие рассыпаны в его письмах тех лет, адресованных Твардовскому и редакции. «Лично я ничего, кроме хорошего, от «Нового мира» не видел», – писал он, к примеру, мне в 1970 году. Если б было возможно, он, наверное, переписал эти строки заново, как перепечатывают задним числом, подгоняя под сегодняшний день, старые газеты в мрачной утопии Оруэлла.
Наблюдая Солженицына в последние годы, Твардовский говорил со своей усмешечкой: «И что это он все хитрит, Александр Исаевич, зачем ему эта конспирация, почему я не могу знать адреса – куда послать ему телеграмму?.. Ну, приобрели мы дитятко, куда там Маршачок» (С. Маршак был притчей во языцех по авторскому самоволию и упрямству).
Свою калужскую дачку Солженицын от Твардовского и всех нас тщательно скрывал. «Я втайне храню свое Рождество именно от «Нового мира», – признается он теперь. Но, как бывает, на всякого мудреца довольно простоты. Он думал, что его «укрывище» тайна, пока ему на голову не брызнул однажды в полдень Виктор Луи со своей фотоаппаратурой. И оказалось, что его местожительство, столь тщательно от нас оберегаемое, давно обсуждают все воробьи, чирикающие на липах у Лубянки.
Однако А.Т. и представить не мог всех оттенков той двойной игры, какую вел с нами Солженицын, хотя недоразумений на почве скрытности его было немало. Я обычно заступался за него перед А.Т., когда готова была вспыхнуть ссора. Солженицыну же пытался дружески втолковать положение Твардовского, вызвать к нему участие. Мне всегда казалось, что их публичный разрыв был бы большим несчастьем для литературы, и я, разговаривая с каждым порознь, как мог, умерял страсти.
Но если бы мы знали тогда, что вымолвит теперь в своей книге Солженицын! Оказывается, хоть и не сразу, но своевременно понял он, что к «Новому миру» надо относиться с «обычной противоначальнической хитростью». И уже на первых обсуждениях «Ивана Денисовича» сидел сдержан, «почти мрачен», потому что «эту роль я себе назначил».
Ну, ладно, люди в редакции – еще мало знакомые, поактерствовал немного, не беда. Но вот его без тени подвоха, с полной открытостью и радостью за него спрашивают, что им еще написано, нельзя ли для журнала. Он хитрит, фальшивит без нужды, заготавливает искусственные, путающие отводы, будто в кабинете у следователя. Расчетливо поразил всех своей бедностью – 60 рублями учительской зарплаты, а теперь в книге признается, что и не хотел больше полуставки, сидел на высокой зарплате жены. И как невесело читать, что даже снимок для обложки «Роман-газеты», сделанный у фотографа осенью 1962 года, – расчет и фальшь: «…то, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили».
Лукавил Солженицын, как теперь сам объявляет в «Теленке», и в письмах к Твардовскому. Пишет он, например, А.Т. письмо «будто бы из рязанского леса» и обращается к нему, как к первому читателю своего романа. «Где уж там первому», – комментирует теперь Солженицын. «Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала», – продолжает он в письме. «Тут натяжка, конечно», – спешит он ныне поправиться.
Уже в 1969 году, когда худо было журналу, Солженицын говорил Твардовскому: «Если для пользы журнала надо отречься от меня – отрекитесь. Журнал важнее». Помню, какие круглые, недоуменные глаза были у Твардовского, когда он это мне пересказывал. Солженицын скорее изумил его, чем обрадовал. Предлагает отречься от него, от «Ивана Денисовича» – да понимает ли он, что говорит?
На других дрожжах было замешано наше дело. А, впрочем, Солженицын и тогда играл, притворялся – оттого так мог сказать, мог и иначе. Вот еще одна фразочка – после задушевной беседы с Твардовским в редакции о судьбе журнала (1969): «Прощался я от наперсного разговора, – а за голенищем-то нож, и показать никак нельзя, сразу все порушится».
Вот так, с ножом за голенищем, оказывается, и разговаривал автор «Ивана Денисовича» со своим крестным отцом, литературным наставником и едва ль не единственным в писательской среде сильным и верным защитником. Лицемерил с доверяющими ему людьми, «двойничествовал», без видимой причины и нужды – «для пользы дела», по-видимому. И все это теперь называется «жить не по лжи»?
Нынешний Солженицын диктует законы человечеству, смело аттестует американцам их политических деятелей, объясняет им их интересы в разных уголках мира. Причем, выступая на Западе, говорит обычно не от себя, а от имени русского народа, или страждущей интеллигенции, или борцов за свободу, – старая наша манера говорить лишь «от имени» и «по поручению»… Но я не рискну теперь утверждать, просто не знаю, когда он говорит правду по убеждению, а когда актерствует, рассчитано бьет на эффект.