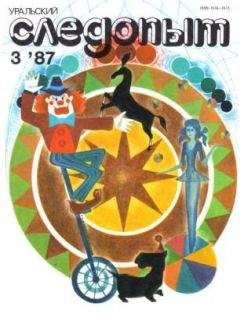Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923
Один из офицеров Пепеляева писал ему из района Чурапчи, то есть за двести верст от места событий: «Везде и повсюду якуты только и говорили о событиях в Сасыл-Сысы».
До Якутска оттуда было не дальше, чем до Чурапчи, и Строд был уверен, что о нем «известно всей республике», в штабе командующего могут не знать разве что подробности. Михайлов и другие командиры стоявшего в полусотне верст Нарревдота с самого начала осады находились в курсе происходящего, обсуждали это на военном совете и должны были доложить обо всем в Якутск, а при наличии осведомителей ГПУ в каждом улусе Байкалов никак не мог пребывать в неведении так долго, как изображает дело он сам.
Воспоминания писались им в 1948 году, но и тогда, и прежде ему тяжело было смириться с тем, что спасителем Якутска, главным героем борьбы с Пепеляевым признан не он, а Строд. Байкалов всю жизнь продолжал считать, что честь победы по праву принадлежит ему как командующему. Вину за неудачный первый период кампании он целиком возлагал на вышестоящих начальников, которых называл «доходящими до опасного зазнайства вельможами», а то, что Сибирской дружине беспрепятственно удалось дойти до центральных районов Якутии, объяснял необходимостью повиноваться поступающим из штаба округа и от командования 5-й армии ошибочным и едва ли не преступным приказам. При этом Байкалову нужно было как-то оправдаться, что в течение двух недель он не попытался ни выручить осажденных, ни хотя бы отвлечь от них часть сил Пепеляева, отсюда его подозрительно настойчивые ссылки на неосведомленность.
Однако и после того, как он якобы впервые услышал об осаде Сасыл-Сысы, Байкалов не бросился на помощь Строду не только по тактическим соображениям, как это выглядит в его интерпретации. Ему важно было доказать собственную состоятельность, иначе под вопросом оказалось бы его будущее.
За полгода он прошел путь от рядового партизанского вожака до крупного военного администратора. Для того времени в таком взлете нет ничего необычного, но Байкалов, в отличие от множества ему подобных, сделал карьеру поздно. Командующим вооруженными силами Якутии он стал в тридцать шесть лет, а в этом возрасте человек больше ценит неожиданно обретенный ранг и сильнее боится его потерять, сознавая, что второго шанса не будет.
Байкалов нуждался в своей личной победе над Пепеляевым, и обстоятельства складывались таким образом, что можно было на нее рассчитывать. По его словам, на штабном совещании «горячие головы» предлагали срочно идти выручать Строда, причем эта «самонадеянная молодежь» успела обсудить между собой план действий по его спасению, изучила дорогу до Сасыл-Сысы, знала расстояние, «потребное время». Байкалов отверг эту идею и, одобрив мнение каких-то «вдумчивых командиров», приказал наступать на Амгу.
Он пишет, что боялся «попасть между молотом и наковальней», так как Пепеляев мог прийти на помощь амгинскому гарнизону Андерса. Чтобы задержать его, если это случится, Байкалов поручил Нарревдоту устроить засады на пути от Сасыл-Сысы к Амге, но непонятно, почему те же нарревдотовцы в тех же засадах не могли действовать против Андерса, если бы тот пошел из Амги к Сасыл-Сысы. Аргументы, приводимые Байкаловом в пользу разумности принятого им решения, занимают целую страницу, в них есть логика, и все-таки уже в силу объема они похожи на оправдание. Трудно отделаться от мысли об их искусственности. Кажется, Байкалов, сам себе в этом не признаваясь, допускал, что к моменту его торжества Строд или сложит оружие, или будет мертв и не придется делить с ним славу триумфатора.
Пороховой погреб
К концу второй недели осады Строд окреп, к нему вернулся аппетит. Он все время испытывал голод. Часть лошадиных туш положили на баррикады, выдачу мяса сократили вдвое и могли бы сокращать дальше, но «ненасытная смерть костлявой рукой гасила все новые жизни». Это позволяло поддерживать порцию на одном уровне.
Погибшие и умершие от ран поступали в распоряжение Жолнина, который подыскивал им подходящее место в кладке из оледеневших людей, лошадей и навозных плит.
Внутри нее ничего не менялось: «Люди ползают на четвереньках, держатся не далее двух-трех шагов от баррикад, иначе грозит смерть. особенно большая опасность угрожает с восточной стороны, где пепеляевцы занимают гору и стреляют сверху вниз. Непоражаемой здесь была лишь узенькая дорожка. От постоянного ползания одежда на локтях и коленях протерлась, болели припухшие суставы рук и ног. Никто не раздевался.
День и ночь были при патронташах, отчего тупо ныли натертые плечи и грудь… От костров, от порохового дыма и грязи лица и руки потемнели и походили на копченый окорок».
С наступлением темноты стрельба стихала, лишь иногда шум ночной тайги провоцировал недолгие перестрелки: «Налетит, выскочит откуда-то ветерок, пробежит по тайге, зашумит иглами сосен, пихт. Насторожатся часовые, стукнет несколько винтовочных выстрелов, татакнет пулемет… Десятками гулких огоньков засверкает опушка леса, взвизгнут над головой пули, и снова тишина. Через каждые два часа осторожный шорох заполняет двор: загремит нечаянно оброненная на мерзлую землю винтовка, тихо выругается красноармеец. Происходит смена цепи в окопах. И за окопами, в стороне противника, через равные промежутки времени слышен скрип снега: у белых тоже сменяется находившееся на позиции подразделение».
В одну из ночей оттуда раздались голоса – вызывали на разговор, хотя по ночам это не практиковалось, а в последнее время перекличек не было. Доказывать свою правоту всем надоело, доводы исчерпались. У осажденных дискутировать никто не хотел, однако пепеляевцы не унимались. Строд велел спросить, что им нужно. В ответ услышали: генерал Ракитин взял Чурапчу, Курашов бежал в Якутск, гарнизон сдался.
«Поздравляем вас с Чурапчой! – кричал глашатай. – К нам оттуда выслано орудие… Сдавайтесь, пока целы».
У Курашова было две американских пушки системы Маклена калибром полтора дюйма (37 мм), скорострельных, но маломощных. Тем не менее ясно было, что даже одной из них хватит на то, чтобы баррикада и юрты были «разнесены в два счета».
Тут же, как и в тот раз, когда от Пепеляева принесли письмо с требованием сдаться, Строд созвал общее собрание. Оно проходило при горящем камельке и зажженных светильниках, чтобы видеть лица товарищей. Дверь в хотон оставили открытой, раненые все слышали и тоже могли подать голос. Дежурная смена прислала своих представителей.
Все понимали, что если под угрозой артиллерийского обстрела они сложат оружие, перед своими отвечать не придется, а в плену им точно будет не хуже, чем сейчас, но штаб в лице Строда и послушных ему Кропачева с Жолниным легко нашел причину, почему сдаваться нельзя: тогда взятое у них вооружение будет использовано для похода на Якутск.
Пепеляева мало интересовали оставшиеся у осажденных четыре увечных пулемета. Боеприпасы были важнее, но и без них можно было пока обойтись. Главное – он уверовал сам и сумел убедить других, что для успешного наступления на Якутск надо вынудить Строда к сдаче, хотя обескровленный, лишенный обоза, обремененный почти сотней раненых Сводный отряд был не в состоянии угрожать тылам Сибирской дружины. К концу февраля в осаде Сасыл-Сысы ясно проступает иррациональное начало. Крепость из балбах становится фетишем, обладание ею – целью, а не средством. У Пепеляева была возможность оставить ее и двигаться на Якутск, чтобы не дать Байкалову перехватить инициативу, но то, чего не удается избежать, кажется потом неизбежным – так проще оправдать собственные ошибки.
Пепеляев любой ценой хотел сломить Строда, тот – не уступить, выстоять, и оба маскировали это стратегическими резонами. Осада превратилась в поединок между ними, при этом за все ее время они друг друга ни разу не видели вблизи и никакой враждебности друг к другу не испытывали, равно как их подчиненные.
Через год, на судебном процессе в Чите, адвокат Пепеляева найдет выразительные слова, чтобы передать нерасторжимое, мучительное единство тех и других: «Над ними было одно небо, которое ставило их всех перед лицом вечности, и глубокий снег, как саваном, окутывал их замерзающие члены».
Кажется, белые и красные, подобно троянцам и грекам, сошлись на этом пятачке, подвластные высшим, надмирным силам, которые через них разрешают спор об устройстве мира людей. Покорность общей судьбе не предполагает взаимной ненависти, и когда Пепеляев и Строд встретятся в зале суда, каждый выразит уважение другому.
Под пером Строда осада Сасыл-Сысы обернулась ярчайшим воплощением первого из перечисленных Борхесом четырех вечных сюжетов мировой литературы – истории крепости, которую штурмуют и обороняют герои, но при холодном взгляде заметен окутывающий это проклятое место морок азарта и бессмысленного соперничества. Строд, как можно понять из его книги, возражений не терпел и все важнейшие решения принимал сам, создавая лишь видимость их обсуждения, а у Пепеляева авторитет был так высок, что никому, включая Вишневского, не приходило в голову сомневаться в логике его действий, тем более – просить у него каких-либо разъяснений.