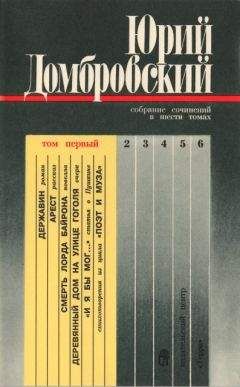Всеволод Кочетов - Собрание сочинений в шести томах. Том 6
Так, значит, Ваня Еремин засел за корреспонденцию. А я отправился посмотреть, что в городе, таком для меня знакомом: года три-четыре мне пришлось пожить в его пределах.
Я очень люблю оба парка и оба дворца. В парках начинали лететь листья — сухое, жаркое лето сделало свое дело. Я ходил по дорожкам — пусто. Только солдаты да командиры, со стуком сапог спешащие по сентябрьской плотной земле. Многих скульптур — бронзовых и мраморных — нет вдоль дорожек. Куда они подевались? Нет Пушкина в лицейском садике, этой замечательной скульптуры: молодой поэт на садовой скамье, задумавшийся, естественно свободный.
Я зашел в хозяйственный флигель Екатерининского дворца, поздоровался, стал расспрашивать о том, как же будет со всем тем, что составляет художественные богатства пушкинских дворцов. Один из сотрудников провел меня в подвалы, где громоздились горы ящиков с номерами. «Для наиболее ценных предметов, — сказал он, — давно заготовлена вот такая тара. Сейчас идет упаковка во всех залах».
В подвалы таскали фарфор — сервизы, отдельные предметы. Это не самое цепное. Оно будет храниться здесь. В залах второго этажа упаковывали картины, вазы. Я смотрел на эту огромную работу и думал: разве все увезешь отсюда, разве упакуешь? Веками накапливались такие богатства. Да, кроме того, как увезешь и куда эти бесценные паркеты из десятков пород дерева, эти двери, карнизы — в резьбе, в инкрустациях, эти наборные — из дерева и самоцветных камней — столики, всю мебель работы искуснейших мастеров XVIII века?
Время тяжкое. Гибнут тысячи, сотни тысяч людей, миллионы остаются в немецком рабстве, горят города и села. Идет дело о жизни или смерти всей страны, нашей Советской власти. И все же и на этом огромного размаха фоне осталось в сердце место для чувств по поводу увиденного здесь, в одном из драгоценнейших дворцов России. Думалось о том, что вот на создание всего этого были надобны столетия, а погибнуть оно может в течение нескольких часов: сгорит в огне, разрушится в бомбовых взрывах. В ящики все не упакуешь. Янтарную комнату никто и не собирался трогать. Как ее увезешь? Сдирать янтарь со стен? Все искалечится. Да и какая была бы это кропотливая работа! А время не ждет, гул боя уже слышен и на юге и на западе.
Зашел в Александровский дворец, в котором бывал много раз с экскурсиями, начиная со школьных времен. Тщательно сохраняется во дворце в полной нетронутости подлинная обстановка и атмосфера тех десятилетий, когда в этом гнезде догнивала династия Романовых. Все здесь как бы образец, эталон обывательщины, мещанства. Ампиры, тогдашние модерны. Столы, столики. На них рамочки с бесчисленными фотографиями, как, помню, бывало в зажиточных или чиновничьих домах нашего старого Новгорода. Кабинет Николая — кабинет не государственного человека, а дельца, промышленника. Особенно характерна спальня царской четы — вся в иконках от пола до потолка. Много сотен иконок. Заурядная, по мещанским стандартам кровать. Жили Романовы, как все мещане России, без взлетов, без идей, без стремлений. Стоит тут и телефонный аппарат, о котором так много писали в свое время в газетах и еще больше толковали устно, — аппарат прямого провода в Ставку, по которому Александра Федоровна разговаривала со своим Ники. Вот небольшая витринка, и в ней, под стеклами, «бесценные реликвии» — деревянные ложки, которыми Григорий Распутин одаривал поклонниц, «священные» воблы, записочки того известного содержания: «Милай дарагой устрой эту дамочку. Она хорошая. Грегорий».
Вот гостиная, в которой Николай принимал с докладами должностных лиц и где, незаметно подымаясь на антресоли из соседней комнаты, могла все слышать Александра.
Из дворца я уходил парком. Мимо могилы героев революции и сражений гражданской войны, мимо Китайского театра, Охотничьего замка; нашел мраморный мавзолейчик, о котором рассказывал Еремей Лаганский. Действительно, полная энциклопедия настенных изречений. Из Баболовского парка вышел на шоссе к Красногвардейску. Впереди громыхало, горело, плавало в дыму. По этой дороге в ноябре 1917 года в дружном единении Краснов и Керенский шли штурмовать революционный Петроград. Краснов так написал о своем соратнике тех дней: «Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили — это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами… их вид праздничный, отзывающий пикником…»
Они вошли тогда в Царское Село, и Краснов даже свой штаб расположил в служебном корпусе дворца Марии Павловны, но просидели оба вблизи Петрограда очень недолго. И вот снова что-то черное, ревущее движется на нас по этой же самой дороге. Что оно принесет на этот раз? Вижу противотанковые рвы, дзоты, траншеи… Будет бой, несомненно будет. Но чем он кончится?
В середине дня мы попрощались с писателями, которые тоже складывали чемоданы и вещевые мешки, и взяли курс на Ленинград.
При выезде из Пушкина, у Египетских ворот, стоял, опираясь о гранит, бронзовый памятник поэту. Как известно, он долгие годы хранился в подсобных помещениях Лицея. Когда его несколько лет назад решили установить на этом вот месте, лицом к дороге из Ленинграда, выяснилось, что сначала надо заварить пробоины от пуль, в дни боев с Юденичем угодивших каким-то образом в бронзовое изваяние.
До села Большое Кузьмино Пушкин провожал нас печальным, задумчивым взором.
12
День 8 сентября 1941 года ленинградцам запомнится надолго.
Едва мы приехали в редакцию, нас потащил в мою комнату, где он с недавних пор обосновался, Володя Соловьев. Из «Ленинградской правды» Соловьев уходил в военно-морское ведомство. Переход был затяжной и трудный. Уже несколько дней в моей комнате хранился огромнейший Володин мешок — типа тех дачных матрацев, которые набиваются соломой или сеном. Мешок, притащенный Соловьевым с военно-морских складов, был набит предметами многочисленного и разнообразного морского обмундирования. В нем были одежды — рабочие, выходные и чуть ли не парадные. Были кители, тельняшки, ботинки, клеши — холщовые и черные, суконные. Целый магазин. Заходившие в комнату все это прикидывали, примеряли на себя. Кое-что даже и растащили: уж больно всем нравились тельняшки и робы. «Ребята, — ныл Соловьев, — отдайте. В чем я служить пойду?»
И вот он затащил нас в мою комнату, защелкнул дверь на французский замок.
— Я был в морском штабе, — сказал он озабоченно. — Знаете, где немцы? Сегодня они заняли Шлиссельбург. Ясно? Добрались до Ладожского озера. А через Мгу они вышли к Неве, в районе Восьмой ГЭС… Ожидается, что попробуют форсировать Неву. А тогда?.. Что тогда? Зайдут за спину Ленинграда… До этого допускать нельзя. Видимо, на невский участок бросят моряков. Вот так, ребята. Пока по фронтам шатаетесь, уже и Ленинград стал фронтом.
Мы долго сидели над картами, чертили, отмеряли, метили их только нам понятными знаками. Да, все может быть, может и так случиться, что будем драться в самом городе. Отступать некуда. На север, на Карельский? Там финны. К Ладоге? Немцы вышли и на Ладогу. Что ж, забаррикадируемся в этом старом здании бенкендорфовских времен — степы толстые, массивные, многое выдержат. Будем драться до последнего патрона, до последней гранаты.
Боевое пришло настроение, никто не думал о сохранении жизни, думали о том, как отдать ее подороже.
Сентябрьский день был на исходе, небо над городом начинало синеть по-вечернему, но на юго-западе, там, где лежали пути из Германии к нам, клубились дымные, грозящие тучи, багрово подсвеченные закатным солнцем.
Издали стал нарастать и приближаться глухой и плотный гул. Будто топот огромного стада неведомых, могучих животных. Он рос, рос, тот гул, и все отчетливей становился бой зенитных орудий. Это их шквальный огонь напоминал издали торопливый топот. Пушки ревели не переставая, ревели всюду, вокруг. Через окно нам было видно небо в сплошных разрывах. В кого, во что била вся зенитная артиллерия Ленинграда, кого она сопровождала таким отчаянным огнем? С 4 сентября каждый день немцы стреляют по городу из артиллерии, было несколько случаев прорыва одиночных самолетов к окраинам. Тогда выли сирены, люди покидали улицы, и все обходилось без особых последствий. Что же такое происходит сейчас?
Кто-то крикнул в коридоре: «Самолеты над городом!» — и мы помчались по нашей каменной крутой лестнице вниз, к подъезду. На улице уже собралась толпа — сбежались со всех редакций.
Прямо над нашими головами четким строем, высоко в небе, медленно, не торопясь, плыла девятка знакомых нам бомбардировщиков. Крестов не было видно, но форма крыльев, фюзеляжей, не наш гул моторов — до чего же они примелькались за эти два месяца фронтовой жизни!.. Вокруг самолетов бушевала буря разрывов. А они все шли…
Это было так, как хаживали крестоносцы по льду Чудского озера: грозно, неколебимо, неостановимо, давяще на чувства. Страшно не было: мы уже многого перестали бояться, было тревожно, очень тревожно. Наступал новый этап в жизни города, в борьбе за город. Враг уже заглядывает в наши улицы, видит наши крыши, нашу жизнь. И спокойно идет над нами, незыблемый, невредимый.