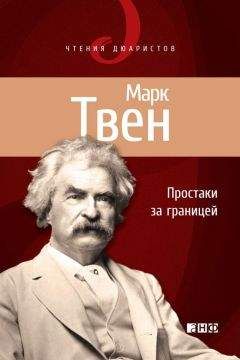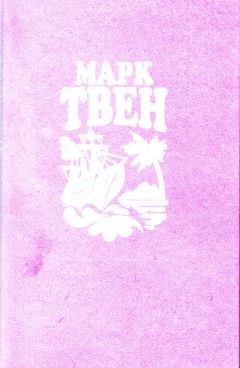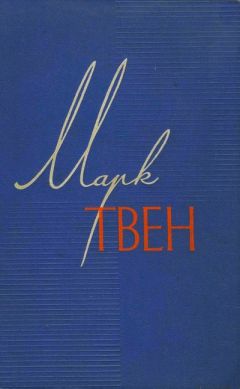Марк Твен - Простаки за границей или Путь новых паломников
В этой церкви находится также гробница дожа Фоскари, чье имя навеки прославил некоторое время живший в Венеции лорд Байрон[77].
Надгробие дожа Джованни Пезаро в этой же церкви — настоящая диковинка среди могильных памятников. Оно имеет восемьдесят футов высоты и походит на причудливый языческий храм. Его подпирают четыре гигантских черных, как ночь, нубийца в белых мраморных одеждах. Черные ноги босы, а сквозь прорехи в рукавах и штанах видна кожа из блестящего черного мрамора. Скульптор был так же изобретателен, как нелеп изваянный им надгробный монумент. Два бронзовых скелета держат свитки, два больших дракона поддерживают саркофаг. В вышине, среди всего этого гротескного нагромождения, сидит покойный дож.
В монастырском здании, соединенном с этой церковью, находится государственный архив Венеции. Мы его не видели, но говорят, что он насчитывает миллионы документов. «Это копившийся столетиями архив самого осторожного, самого бдительного и самого недоверчивого из всех когда-либо существовавших правительств, при котором все записывалось и ничто не говорилось вслух». Он занимает около трехсот комнат. Тут хранятся рукописи из архивов почти двух тысяч семейств, монастырей и обителей. В них заключена тайная история Венеции на протяжении тысячелетия — заговоры, негласные приговоры, казни, поручения наемным шпионам и убийцам, — готовый материал для бесчисленных романов тайн и ужасов.
Да, я думаю, мы видели все, что можно увидеть в Венеции. В ее древних церквах мы видели такое изобилие дорогих, искусно сделанных надгробных украшений, какое нам и не снилось. Мы подолгу стояли в сумрачном благолепии этих святилищ, покрытых прахом столетий, среди запыленных могильных памятников и статуй славных мертвецов Венеции, пока наконец нам не начинало казаться, что мы уплываем все дальше, дальше и дальше в великое прошлое, что перед нами развертываются картины глухой старины и что мы видим давно исчезнувшие поколения. Все время мы грезили наяву. Я не знаю, как иначе описать это ощущение. Часть нашего существа оставалась по-прежнему в девятнадцатом столетии, но другая его часть каким-то необъяснимым образом жила среди призраков десятого.
Мы видели столько знаменитых картин, что в конце концов наши глаза утомились и смотрят на них уже без всякого интереса. И это не удивительно — ведь в Венеции находится тысяча двести картин Пальма Младшего и тысяча пятьсот — Тинторетто, не говоря уже о соответствующих количествах произведений Тициана и других художников. Мы видели знаменитого «Каина и Авеля» Тициана, его «Давида и Голиафа», его «Жертвоприношение Авраама». Мы видели колоссальное полотно Тинторетто[78], которое имеет семьдесят четыре фута в длину и уж не знаю сколько в высоту, и оно показалось нам весьма вместительной картиной. Тех мучеников и святых, изображения которых мы видели, вполне хватило бы, чтобы очистить от греха весь наш мир. Пожалуй, мне не следовало бы признаваться в этом, но поскольку в Америке у человека нет возможности стать ценителем искусства и поскольку я не мог стать им за несколько недель пребывания в Европе, то, принеся все необходимые извинения, я все-таки сознаюсь, что, увидев одного из этих мучеников, я почувствовал, что видел их всех. Все они обладают большим фамильным сходством, все они одинаково одеваются в грубые монашеские рясы и сандалии, все они лысы, все стоят примерно в одной и той же позе и все без исключения устремляют взоры в небо, а их лица, как сообщают мне Эйнсуорты, Мортоны и Уильямсы et fils, полны «экспрессии». А я в этих квазипортретах не вижу ничего, что меня задевало бы за живое, трогало или могло заинтересовать. Если бы только великий Тициан обладал даром пророчества и, пропустив очередного мученика, съездил бы в Англию, и написал бы портрет Шекспира — пусть ребенком, — портрет, которому теперь мы могли бы доверять, род людской до самого последнего поколения простил бы ему потерянного мученика ради обретенного поэта-провидца. Я думаю, потомки обошлись бы и еще без одного мученика ради исторической картины, вышедшей из-под кисти Тициана и изображавшей бы какое-нибудь современное ему событие, — например, он мог бы написать Колумба, который, открыв новый мир, возвращается домой в цепях. Ведь запечатлели же старые мастера несколько эпизодов истории Венеции — и на них мы не устаем глядеть, несмотря даже на то, что изображение покойных дожей, которые официально представляются деве Марии в заоблачных высях, переходит, по нашему мнению, границы благопристойности.
Но хотя, когда дело касается искусства, мы исполнены смирения и скромности, все же наше изучение нарисованных монахов и мучеников не осталось совершенно бесплодным. Мы не жалели усилий, дабы приобрести знания. И достигли некоторых успехов. Кое-чему мы выучились; быть может, в глазах людей сведущих это пустяки, но нам наши познания доставляют радость, и мы так же гордимся своими незначительными достижениями, как и те, кто знает гораздо больше, и точно так же любим их показывать. Когда мы видим монаха, гуляющего со львом и спокойно взирающего на небеса, мы понимаем, что это святой Марк. Когда мы видим монаха с книгой и пером, спокойно взирающего на небеса в поисках нужного слова, мы понимаем, что это святой Матфей. Когда мы видим монаха, сидящего на камне и спокойно взирающего на небеса, а рядом с ним череп, составляющий весь его багаж, мы понимаем, что это святой Иероним, ибо мы знаем, что он предпочитал путешествовать налегке. Когда мы видим человека, спокойно взирающего на небеса и не замечающего, что его тело насквозь пронзено стрелами, мы понимаем, что это святой Себастьян. Когда мы видим других монахов, спокойно взирающих на небеса, но не имеющих при себе никаких опознавательных знаков, мы всегда спрашиваем, что это за личности. Мы поступаем так потому, что смиренно стремимся к знанию. Мы уже видели тринадцать тысяч святых Иеронимов, двадцать две тысячи святых Марков, шестнадцать тысяч святых Матфеев, шестьдесят тысяч святых Себастьянов и набор из четырех миллионов монахов, не имеющих особых примет, и поэтому мы чувствуем уверенность, что, осмотрев еще некоторое количество этих разнообразных картин и приобретя еще больший опыт, мы проникнемся к ним тем же всепоглощающим интересом, который испытывают наши просвещенные соотечественники из Amerique.
Я с болью душевной отзываюсь о старых мастерах и их мучениках столь непочтительно, ибо мои добрые друзья с «Квакер-Сити» — друзья, которые тонко понимают творения старых мастеров и чрезвычайно высоко их ценят и, кроме того, умеют безошибочно отличить хорошее полотно от посредственного, — уговаривали меня — ради меня же самого — не оглашать того факта, что я не умею разбираться в картинах и ценить их. Я чувствую, что все написанное мною о картинах и то, что я, возможно, еще напишу о них, глубоко огорчит моих друзей, и я искренне об этом сожалею. Я даже обещал утаить от всех мои невежественные суждения. Но увы! Я еще ни разу в жизни не сдержал данного мною обещания. Я не виню себя за эту слабость, потому что таково, вероятно, свойство моего организма. Весьма вероятно, что под тот орган, который дает мне способность обещать, место было отведено с такой щедростью, что его не хватило для того органа, который давал бы мне способность выполнять обещания. Но я не горюю. Я ни в чем не терплю половинчатости. Я предпочитаю одну высокоразвитую способность двум обыкновенным. Я, разумеется, собирался сдержать мое обещание, но оказалось, что я на это не способен. Путешествовать по Италии и не говорить о картинах — невозможно, и не могу же я смотреть на них чужими глазами.
Если бы меня не приводили в восторг чудесные картины, которые каждый день развертывает передо мной царица всех художников — природа, я почти поверил бы, что не умею ценить красоту.
Я прихожу к заключению, что если я с торжеством решаю, что наконец-то обнаружил по-настоящему прекрасную и достойную всяческой похвалы старинную картину, то мое удовольствие при виде ее — неопровержимое доказательство, что эта картина вовсе не прекрасна и не заслуживает никакого одобрения. В Венеции это случалось со мной несчетное число раз. И всегда гид безжалостно растаптывал мой зарождающийся энтузиазм неизменным замечанием:
— Это пустяки, это Ренессанс.
Я не имел ни малейшего представления, что это еще за Ренессанс, и поэтому мне всегда приходилось ограничиваться ответом:
— А! В самом деле, я как-то сразу не заметил.
Я не хотел проявлять свое невежество перед образованным негром, сыном раба из Южной Каролины. Но даже мое самодовольство не могло выдержать то и дело повторявшихся невыносимых слов: «Это пустяки, это Ренессанс». Наконец я сказал:
— Кто такой этот Ренессанс? Откуда он взялся? Кто позволил ему наводнять венецианскую республику своей отвратительной мазней?