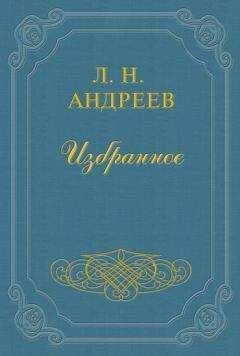Николай Еленевский - Время пастыря
– Кто его знает. Плешко говорил, может, в каком архиве затерялась. Я послал запросы в разные места, но пока с ответами туго.
– Нет, подожди, это же не страничка, две, три, это же грамматика, целый труд. След должен быть.
– Пока ничего. Ни со Львова, ни с Бреста, ни с Минска. В Пинск сам ездил, выразили любопытство, помогали, да что толку. Там ведь все свежие архивы. Когда области объединяли, пинский архив вывезли в Брест. Это уже после войны. А в войну, где-то в 43-м, немцы кое-что вывозили во Львов. Мы в то время входили в состав Украины.
– А если где подальше?
– Москва молчит, Ленинград молчит. Видимо, самому надо ездить, да у кузнеца какие деньги. Жена и так ругается, что всю получку трачу на книги. Ты ведь во Львове учился. Если бы на то время да попросить тебя посмотреть в музее, может, что-то и высветил. А так… Говорят, там музей прекрасный?
– Не был.
– Эх ты, а еще журналист. При твоей специальности да без музеев – это что коню без подков, – Василь улыбнулся. – Ладно. Живем надеждой.
– Знаешь, пожалуй, я смотаюсь во Львов.
Он удивленно кехекнул, пожал плечами:
– Как хочешь. Своим не говори, меня ругать будут. Скажут, человек в отпуск приехал, а я подбил его на дурницу.
– Придумаю что-нибудь.
В плацкартном вагоне поезда Ленинград – Львов, который почти полностью был уставлен огромными пустыми корзинами из-под ароматной клубники, для меня нашлось место.
Вагон оказался говорливым, веселым, песенным. В клубничный запах добавлялся пах колбас, купленного в Лунинце свежего хлеба и водки. Неугомонные пассажиры – загорелые крепкие парни с двумя молоденькими девушками в красиво вышитых сорочках – всю ночь «распрягали коней и ходили спочивать», да еще дружным многоголосьем «копали криниченьку». Несколько раз приглашали в гости. Но я уже жил встречей со Львовом – городом своей курсантской юности. Предвкушал удачу, думал, что именно там находится белорусская грамматика Тихоновича, и как обрадую Василя, когда покажу ему хотя бы ее копию.
Львов – старинный красавец, полуполяк, полу-украинец, полурусский, полу-австиец, полугуцул, полу-еврей, полубелорус – жил своей жизнью, озвученной перестуком трамваев, степенным говором, а также вылетавшей из окон домов, кафе, из распахнутых дверей магазинов популярной до сумасшествия песни «Червона рута»…
В историческом музее ничем не обрадовали. Узнав цель поездки, очень захотели помочь, но…
Правда, меня увлекла «прогулка» по страницам «Львовского слова» – местной газеты, издававшейся здесь в середине XIX столетия. В частности, отрывок из статьи, подписанной инициалами и с дополнением к ним: «Известный писатель». В ней велся разговор о том, на каком языке целесообразно преподавать науки и грамоту в открывающихся народных школах. Подумал, значит вполне вероятно, что по этому вопросу велась большая полемика, которая выходила далеко за пределы «Львовского слова». Центрами спора и, судя по всему, основополагающими для того времени, как выяснилось позже, были Киев и Вильно. Чувствовалось, что этот спор захватил не только творческую интеллигенцию, но и значительные круги духовенства.
– Вы знаете, такая грамматика имела право на жизнь, – такими были мои выводы.
Сотрудники музея согласились:
– Тогда много всего писалось, сочинялось, творилось. Представляете: отмена крепостного права, новые веяния. Жизнь бурлила. Так что у вашего Тихоновича были весомые аргументы сесть за подобный труд. Ищите свою жар-птицу, молодой человек, ищите.
С этим напутствием львовских хранителей старины и уехал обратно.
* * *…Василь моему пустопорожнему возврату не удивился. Философски-мечтательно произнес:
– Ха, Миколка, будь все так просто… Думаю, если она написана, то все равно где-то есть. Найдем, почитаем. Знаешь, как ее мог написать священник, ума не приложу. Ладно, будь он профессор или там лингвист. А вот на тебе, оставил след.
Его мечтательность, так захватившая перед поездкой, теперь меня разозлила.
– Какой там след, а войны, пожары…
– Нет, Миколка, пока ты от всего этого далек, так далек, что и не представляешь.
– А ты представляешь?
– Злишься?
– Да нет.
– Вот и ладно. Поверь, что представляю, – он сжал в кулаки крепкие цепкие пальцы, постучал ими, словно соединял, склепывал на своей наковальне невидимые части чего-то целого. – Должна быть. Плешко просто так говорить не мог.
Священника Александра Иосифовича Плешко я тоже знал, но чисто со своей мальчишечьей стороны. Учился в одном классе с его внуком Сашей. Мы дружили. Я бывал у его дедушки, который и растил своего Сашеньку. Их старый дом стоял на повороте сельской улицы, что служило причиной целого ряда несчастий. То ли по неопытности, то ли подвыпивши, но шоферюги норовили въехать в него. И въезжали, ломали забор, однажды повредили стену дома, чем до смерти напугали матушку Ольгу. Сельчане, чтобы оградить священника от еще больших неприятностей, защитили его усадьбу, вкопав на углу рельсы. В комнатах пахло ладаном, свечами. С многочисленных икон смотрели задумчивые лики святых. На душе становилось боязно. Александр Иосифович никогда не мешал нам, не встревал в разговоры. Бабушка Оля старалась подать к столу чай с медом. В саду у них стояло несколько ульев. Мне было немного смешно: все происходило словно в каком-то старом фильме о старом времени. Но благодаря дедушке Сашу в школе уважали. К тому же он учился хорошо. А еще прекрасно играл в футбол. Мы, вся сельская пацанва, жили футболом и голубями. Размечали под футбольные поля все окрестные пустыри и возводили на чердаках клетки для голубей.
В 1964 году церковь закрыли. Церковная документация сохранила четвертушку бумажного листа с машинописными строками:
«Церковной общине д. Лунин. На 1963 год церковной общине в прошлом году было предъявлено к уплате налога со строения и земельная рента.
В 1964 году община должна уплатить налога со строения и земельную ренту в сумме 112 руб. 64 коп. Указанную сумму прошу внести сельсовету к 1 марта 1964 года.
Заведующий Лунинецким районным финансовым отделом Е. Шецер».
Такой суммы денег на тот момент у церкви не оказалось. Но, скорее всего, деньги здесь играли второстепенную роль. Это был лишь повод для оправдания тех, кто решил бороться с религией любыми методами.
После этого последовали со стороны власти и выводы: в один из воскресных дней вывозили иконы, сбрасывали колокола. Часть икон перенес к себе священник Плешко. Часть была передана в Лунинецкую Крестовоздвиженскую церковь, некоторые уехали в епархию в Пинск. Церковная библиотека в большинстве своем была перевезена к себе домой Василием Карпцом и сложена там на чердаке.
Кто-то, глядя на здание храма, вытирал слезы и горько вздыхал. Кто-то злорадствовал, кто-то роптал. Поговаривали, что теперь селу надо ждать какого-то лиха. Всю жизнь вставали и засыпали с Богом, и вот на тебе… Нет печальнее, больнее картины, чем безмолвствующая церковь.
Молиться, крестить детей, венчаться ездили в Лунинец. Ездили втихомолку и совсем немногие. Нет, не потому, что перестали верить. Во всех домах как украшали красные углы святые лики, так они и остались на своем уготованном им жизнью и верой месте. Перед ними по праздникам по-прежнему теплились огоньки лампад. И эта вера уже не была доступной тем, кто хотел бы и ее порушить. Но осталась она без самого важного, связующего звена.
А лихо по селу бродило. Народ и раньше трезвенником никогда не был. Но пьянчуг имелось мало, как говорил сельский сочинитель прибауток, частушек Данило Обровец: «Мы на пальцах сосчитаем, кто наливает водку с краем». Теперь люди стали еще больше пить. Раньше закусочная находилась в здании бывшей корчмы, до войны стоявшей на берегу небольшого искусственного озерца, когда-то огороженного плотиной с водяной мельницей. Потом ее перенесли в старинную пятиугольную католическую каплицу, построенную в начале XVIII века после сожжения казаками римско-католического костела. В селе было немало верников римско-католического вероисповедания. Закусочная-«каплица» объединила около стакана и православных, и католиков, и иудеев… «Зашел и Данило промочить рыло».
Теперь она стала центром всей сельской жизни. Здесь орали песни, частушки, сочиненные тем же Данилой. Особенно одна из них полюбилась, посвященная Хрущеву: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, захвати с собой Никиту и забрось-ка на орбиту. Преврати его в верблюда и швырни его оттуда». Участковый милиционер Самандык ругался, говорил, что за политику могут и схлопотать. Люди смеялись, наливали и участковому, били друг другу морды. Надрывно плакали женщины, уводя подальше от греха своих мужей. А сколько молодых судеб поломалось.
В церкви под притихшими куполами поселились голуби. Множество голубей. Мы ловили их, приручали. Правда, кто-то сберег один колокол и водрузил обратно на звонницу. Теперь его глухой, словно выстуженный временем голос оповещал о том, что село провожало кого-то из своих жителей в последний путь. Унылое, полное печали «бум-бум, бум-бум».