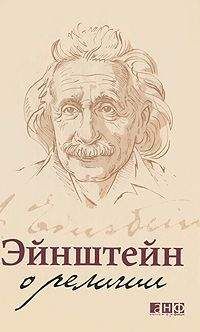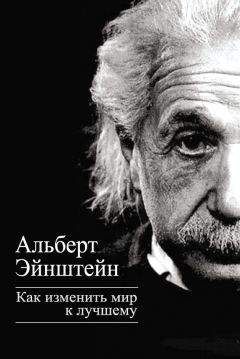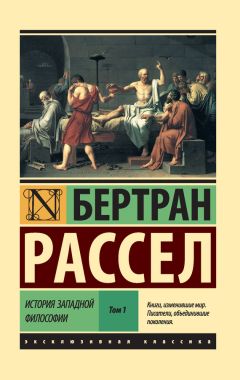Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
И уж никакой не было трусости в самом А.Т., тем более связанной с его партийным или общественным положением.
Надо было слышать, как независимо, просто и твердо разговаривал Твардовский с самыми высокопоставленными людьми. Достаточно вспомнить, как в 1961 году в присутствии многих писателей, в Секретариате ЦК он ответил могущественному тогда Л.Ф. Ильичеву, что Твардовский в своей речи не вполне искренен: «О моей искренности я не позволю судить никому, даже секретарю ЦК». Ильичев икнул от изумления, пятнами пошел и, понятно, проникся к Твардовскому дополнительной мерой неприязни и уважения. В моем присутствии по редакционному телефону он не однажды разговаривал с высшими руководителями – Л.И. Брежневым, М.А. Сусловым, Л.Ф. Ильичевым, П.Н. Демичевым, и можно было только удивляться его умению вести разговор с такой независимостью, прямотой и достоинством, которые импонировали умному собеседнику и перед которыми терялись наглецы. «Не затрудняйте себя объяснениями», – холодно обрезал он как-то фальшивые рассуждения по поводу отклоненных его стихов главного редактора «Правды» П. Сатюкова. Повысить голос на него не смел никто, чувствуя за ним особую гордую нравственную силу, и я не раз наблюдал, как «второстепенные инструкторы» и важные «заведующие» заискивали перед ним. Конечно, подкупало в нем обаяние простоты, мягкий юмор, а природная величавость помогала соблюдать дистанцию. Но вообще-то он не был так уж прост и, имея в виду интересы литературы и выгоды журнала, мог иногда схитрить, уклониться, слукавить – но никогда в ущерб личному достоинству. «Природное достоинство перед вышепоставленными» отмечает в А.Т. и Солженицын где-то на первых страницах книги, но вскоре забывает об этом и настойчиво лепит совсем иной образ.
Я не хочу сказать, что Твардовский вовсе не испытывал чувства страха – в большей или меньшей мере ему подвержены все. В отличие от многих других он умел его преодолевать, и оттого никогда не был трусом. Солженицын изображает испуг, будто бы охвативший А.Т. в Рязани во время чтения им «Круга первого». Зная Твардовского, сильно сомневаюсь в этой сцене: Солженицын напрасно так истолковал его ночной бред. Но чтобы гуще прорисовать в Твардовском эту черту, автор «Теленка» возмущается тем, что А.Т. не принял на хранение в редакции его рукопись, когда он вторично принес ее после ареста экземпляра «Круга первого» органами КГБ. «Но если бы Пушкину принесли на спасенье роман, за которым охотится Бенкендорф, – неужели бы Пушкин не ухватился за папку, неужели отстранился бы… Так изменилось место поэта в государстве и сами поэты», – морализует Солженицын.
Оставим в стороне ложную патетику. Великий Пушкин, увы, не образец гражданской независимости, и если бы Солженицын лучше помнил историю отечественной литературы, он никогда не покусился бы на эту параллель. Обратим внимание на другое. Тогда, в 1965 году, еще до случившейся беды, Твардовский был оскорблен недоверием Солженицына, забравшего из сейфа рукопись, несмотря на горячие уговоры оставить ее там. В стенах «Нового мира» никто не посмел бы ее конфисковать без согласия А.Т. «Этого не будет, пока я тут редактор», – решительно говорил Твардовский, пристукнув ладонью по столу. Но после того как Солженицын, ходя своими петлистыми следами, перехитрил сам себя и рукопись романа была конфискована у Теуша, положение переменилось. Одно дело – держать в «Новом мире» представленную автором по договору рукопись, другое – официально принять на хранение экземпляр романа, уже конфискованного. Солженицыну было наплевать на «Новый мир», положение Твардовского как редактора журнала не входило в его раздумье. «Литератор-подпольщик», как он сам себя аттестует, так изощренно продумавший все свои «захоронки», мог бы, казалось, сам найти место для хранения своей рукописи. Предложение ее Твардовскому в этих обстоятельствах несло в себе мало благородства, имело объективно и такой оттенок: если я загремлю, пусть и «Новый мир» гремит со мною, звонче отзовется. Да уж, и кстати, если вчитаться в текст «Теленка» – что за рукопись принес А. Т. тогда Солженицын? Второй или третий экземпляр романа. Один, как мы теперь достоверно узнаем от автора (раньше только догадывались), спрятан подпольно, другой – уже за границей. Так что паника о безвозвратной пропаже этого труда из-за нежелания Твардовского хранить его в редакции была напрасной, а сравнение с Пушкиным, который бы «не отказался», бьет на внешний эффект, и по существу фальшиво. Словом, и тут я могу понять Твардовского, но совсем не понимаю Солженицына, обвинившего его в трусости.
Второе, что делает образ Твардовского у Солженицына мало привлекательным, – это водка. Не очень хотелось бы об этом писать по деликатности сюжета. Но что делать, если в «Теленке» тема уже распочата. Солженицын ханжески корит Твардовского за пристрастие к водке, расписывает его пьяный бред в Рязани, куда сам пригласил его в гости – «и это в доме автора – трезвенника!». Тяжело, неприятно читать эти страницы книги. Ему то, простейшее, не приходит на мысль, что Твардовский только четыре года как умер, и достойно ли при живой его жене и дочерях потрошить его личную беду и слабость на потеху всего читающего мира? В прошлом веке это называлось «личностью». Но прошлый век нашему гению не указ – он и Льва Толстого возьмет за бороду. Оттого скажу грубее: а если бы некто, как добродетельный моралист, стал рассуждать о перипетиях личной жизни «теленка», выставлять на свет то, что о ней по слухам известно? Или стал подбирать рассказы о его неблагородстве и неблагодарности от людей, ему помогавших и близких его семье? «Не дворянское это дело», – говорил в таких случаях потомственный крестьянин Твардовский.
Но раз уж таким «недворянским делом» Солженицын занялся, следует сказать об этом два слова. Да, Твардовский временами пил много, пил запойно и мучительно, и надо признать, общественные обстоятельства и невзгоды сильно этому способствовали. Душа поэта с его сверхмерной чувствительностью требовала защиты от невозможных жизненных впечатлений. Говорят, он стал особенно сильно пить в войну, потому что не мог вынести того, что ему пришлось видеть, – смертей, огня и пепла родного дома на Смоленщине. И так же сильно временами пил он в тяжелые дни «Нового мира», ища и не находя для себя и журнала выхода и защиты. Солженицын прав, когда говорит, что водка для него была одним из видов «ухода». Но он совсем не прав, оскорбительно не прав, когда изображает Твардовского так, что читатель может усомниться в его нравственном здоровье и целостности его личности.
Я видел Твардовского в разные минуты его жизни, сам выпил с ним не одну стопку, и могу твердо говорить: удивительно было в нем, что водка не разрушала его морального «я». Никогда, даже в глубоком опьянении, он не путал нравственных оценок, не мог оскорбить зазря человека, душевно ему близкого, и не восхищался тем, чем не стал бы восхищаться натрезво.
Вспоминаю другого крупного поэта – современника Твардовского, страдавшего тем же недугом. Когда он пил, с ним нельзя было разговаривать, невозможно сидеть за одним столом: в нем просыпался злой бес; он становился желчен, нетерпим, говорил глупости и гадости, с удовольствием оскорблял знакомых и малознакомых ему людей, и чаще всего дело заканчивалось пьяной ссорой. Ничего похожего не случалось с А.Т.
Я более скажу: меня всегда поражало, что даже в полосу мучительного запоя мысль его не засыпала и только как бы «прокручивалась» чаще обычного в одних и тех же формах. Он никогда не съезжал на мелочные и глупые разговоры, «пьяные обиды», и даже в сонном дурмане, непослушным уже языком, кажется, думал и говорил о самом своем главном, существенном. Для меня в этом – еще одно доказательство цельной души, подлинности, неподдельности его чувств и желаний.
В пьяном Твардовском из «Теленка» я не узнаю близко знакомого мне человека: то, да не то. Но Солженицын вздувает и наклоняет определенным образом эту тему, конечно, не из личного недоброжелательства к А.Т. Ему важно показать, «какими непостоянными, периодически слабеющими руками велся «Новый мир». Он повторяет, таким образом, привычную клевету казенных недоброжелателей Твардовского: журнал ведет алкоголик, его слабостями пользуются и т. п.
Третье обвинение Солженицына Твардовскому еще очевиднее относится не к нему лично только, но и к самой атмосфере журнала – это обвинение в «культе» главного редактора, его чрезмерной важности, недемократизме. Автор «Теленка» не брезгует и такими «художественными деталями», как то, что Твардовский с опаской переходил улицу (не привык-де пешеходом!) или с трудом влезал в старенький «Москвич» («по своему положению он не привык ездить ниже «Волги», – комментирует Солженицын). Смеху подобно! Улицу А.Т. и в самом деле переходил тревожно, вцепляясь в рукав спутника, нервничая перед каждой движущейся машиной. Но это просто потому, что до конца не мог привыкнуть к городу, оставалась какая-то деревенская робкая закваска, потерянность перед его движением и шумом. К слову сказать, точно так же робел он большой воды и, когда мы были с ним на Волге, в Карачарове, неуверенно чувствовал себя в лодке, как человек, не на реке выросший (в смоленских его краях большой реки не было). А в «Москвич» с трудом влезал А.Т. по той же причине, по какой предпочитал широкое старомодное кресло в моем доме хлипкому современному стулу: такая уж «курпускуленция» – человек был широкий в плечах, рослый, могучий. Что же тут искать «вельможности»?