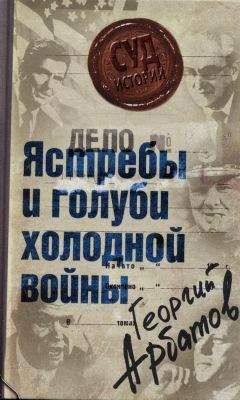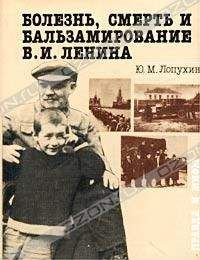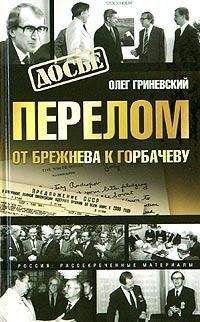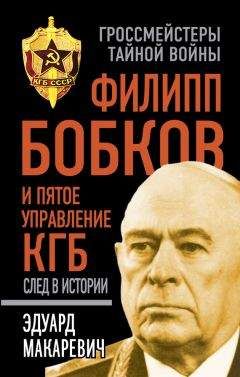Заговор профессоров. От Ленина до Брежнева - Макаревич Эдуард Федорович
Редакционную коллегию должны составлять лишь лица, всецело и вполне солидарные друг с другом в основных идеологических и политических проблемах. Газета — не предприятие “смешанных” паев, где 51 % может принадлежать правительству, а 49 — частным лицам»58.
Этот «устряловский» взгляд на прессу так близок ленинскому. Чувствуется, что и практическая работа в пресс-службе Колчака Устряловым не забыта: газета — это орган пропаганды и организации.
Устрялов предлагает новую тактику для продвижения евразийства, которая и сегодня не потеряла своего значения в случаях, когда речь идет о принципиальных социальных изменениях. Эта тактика строится не на противостоянии с руководящей элитой страны, не на революционной борьбе, а на переубеждении, изменении ориентиров у правящей элиты и у масс, на заражении новыми взглядами и тех и других.
И здесь он обращает внимание, как важно быть осторожным в выражениях, чтобы не «оттолкнуть от евразийства спецовскую (профессиональную. — Э.М.) и вообще некоммунистическую среду в России, а в придачу и разумных коммунистов, а также комсомольцев»59.
Но чтобы процесс переубеждения, смены взглядов пошел, необходимо найти некую основу, площадку для сближения убеждаемых с носителями новых взглядов, площадку, которую воспринимают обе стороны. Этой площадкой Устрялов видит русскую государственность и патриотизм. Вот что он пишет Сувчинскому:
«Конечно, Вы правы в основном — и это то, что нас объединяет: “будущая русская государственность уже задана в государственности советской”60.
“Верно и то, что нужно бояться превращения России в колонию. Почему вопреки ясным словам статьи “Кризис ВКП” Вам кажется, что я “за Сталина” лишь по “буржуазно-капиталистическим” соображениям? Так же как и Вы, я за него прежде всего потому, что “именно центральная установка Сталина гарантирует на некоторое время функционирование того партийно-государственного аппарата, внутри которого и создается, и формируется новая государственно-правящая психология, вырастает кадр государственных спецов”. Готов подписаться под этой формулой. Могу сказать, что ее разделяет и весь “непартийный правящий слой” в Москве (точно знаю это)»61.
Но государственный патриотизм Устрялов соединяет с личной нравственной позицией участников процесса, исключающей «мещанское благополучие», то, что не позволяет проникнуться общественными идеями. В письме Сувчинскому это звучит так:
«Готов подписаться целиком под передовой Вашего первого номера. Общий характер формулировки “двух принципиально противоположных точек зрения” позволяет мне присоединиться ко второй, а не к первой: “мещанское благополучие, поставленное на место великих ответов” не может прельщать и меня (правда, марксистско-коммунистический вариант “великого ответа”, по-моему, уже чересчур утомляет страну и не лишен некоторых других недостатков)»62.
Оставим замечание по поводу «великого ответа», но ведь позиция Устрялова в отношении мещанства — это, по сути, ответ инженеру Суслову из горьковских «Дачников», который произносит бессмертный монолог: «Мы, говорю я, много голодали и волновались в юности… Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте… Я русский обыватель… Я буду жить как я хочу. И… наплевать мне на ваши… идеи!» А разве позиция Устрялова не задевает участников так называемого шахтинского дела, возбужденного в 1928 году против инженеров, не сильно жаждавших ответственно работать на советскую промышленность?
Итак, основа для сближения участников процесса — это национальный патриотизм, это личная позиция явно не мещанского толка. Кроме того, напоминает Устрялов, для проникновения и распространения идей евразийства в СССР есть база, именуемая «устряловщиной» — некое течение, некий духовный союз, порожденный ушедшим «сменовеховством». Все это позволит открыть полемику. Лишь тогда идеи евразийства могут пробиться в сознание элиты, а затем увлечь и массы. По мнению Устрялова, стоит вести дискуссии о русской истории, об организации хозяйства, ориентируясь на теорию евразийства. Обсуждение вести вне и внутри СССР. Но прежде всего эти идеи должны захватить научные и руководящие круги Советского Союза. Такая возможность в середине 20-х годов в СССР еще не растаяла. Вот что он пишет в связи с этим Сувчинскому.
«Если вы решили спуститься в практическую политику — благоволите проявить и политическое искусство, чутье, выдержку, — изучайте и политическую тактику, хотя бы для этого пришлось читать и изучать томы ленинских писаний (для политика — дело необходимое) и многое другое. Иначе — не уцепитесь за прозой, не свяжетесь с “массой”, и Ваши правильные интуиции пропадут даром: останетесь чем-то вроде милого кружка Маргариты Морозовой в Мертвом переулке (и переулок-то какой символичный). Должен сказать откровенно, — я не вижу у евразийцев доселе политической сноровки. Доселе евразийство представляется мне все еще “литературным течением” по преимуществу. Мне кажется, что то, что в СССР называют “устряловщиной”, есть единственно подходящая для евразийства политика. А вы, евразийцы, как в свое время европейские сменовеховцы (только те — с другого фланга и гораздо более беспомощно, мелко), хотите наметить какую-то иную линию.
Сейчас можно и удобно говорить о ликвидации левой оппозиции, о том или другом отдельном, очередном шаге власти, умеючи находить реальные звенья подлинной жизни (сравните деятельность профессора Кондратьева — “устряловского полпреда в Москве”, по выражению Зиновьева). И рядом можно и должно продолжать за границею рассуждения идеологические о начертании русской истории, об идеократии и т.д. Исподволь это можно делать даже и в СССР. Эти рассуждения нужны, полезны, они выковывают новых людей, духовно тренируют их. Я согласен с Вами насчет “идейно-политического кристаллизатора”. Но, кристаллизуя идеологию, он должен вырабатывать и рецепты на сегодняшний день, если хочет стать жизненным политическим фактором. Вы им никогда не станете, если не научитесь “маневрировать”, если не станете политиками в собственном смысле слова. И, философствуя об “идеократии”, нельзя забывать о массах, о социальных силах, об их наличной психологии, о “классовых интересах” (ничего не поделаешь!). …Нечего говорить, что большевики держатся тем же»63.
Говоря об идеологических рассуждениях за границей, которые «духовно тренируют», Устрялов скорее всего имел в виду съезды русских ученых-эмигрантов, регулярно проходившие в те годы в Праге, Париже, Берлине. О таких съездах регулярно сообщали европейские резидентуры Иностранного отдела ОГПУ. Вот информация венской резидентуры о научном съезде профессоров-эмигрантов в октябре 1924 года в Праге.
«…Необходимо отметить ряд своеобразных выступлений. Так, например, П.Н. Савицкий после своего доклада предложил съезду приветствовать… великого Чингисхана, как первого идеолога Евразии.
…Лазарев Е.Е. заметил, что определение Струве слишком марксистское, что социализм это кооперация… Общее впечатление следующее: евразийцы были представлены очень слабо (Савицкий), зато очень популярны были славянофильские доклады, как выступления Вернадского, Шахматова, Тарановского. Наиболее конкретен был Ясинский, утверждающий, что в московской Руси не было ни сословия, ни деспотизма. Тарановский указал, что “русские, изгнанные с родины коммунистическим деспотизмом, увидали, что в Европе во многих странах с демократической формой властвования управление оказалось более деспотическим и гораздо хуже организованным, чем было в императорской России последнего полувека”»64.
Идеи, звучавшие на таких съездах, в выходящих потом сборниках выступлений захватывали не только эмигрантскую среду, но и доходили до ученых и политиков в СССР. Доходили не только благодаря сообщениям советской разведки (это в основном для политического руководства), но и благодаря не прекращавшимся научным и личным контактам между профессорской эмиграцией и учеными в СССР, занимавшимися исследовательской работой в ведущих университетах страны, в научных институтах, обслуживающих власть. Это было то, что Устрялов называл «идеологическими рассуждениями», которые исподволь «можно делать даже в СССР», которые в конечном счете «выковывают новых людей, духовно тренируют их».