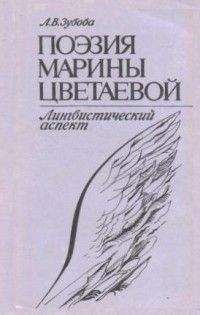Людмила Поликовская - Тайна гибели Марины Цветаевой
Летом 1938 года она с сыном уезжает на море, и у нее хватает душевных сил восторгаться окружающей природой.
После возвращения с курорта она поселяется в Париже, в отеле. Вряд ли то была ее инициатива: ни больших городов (кроме Москвы ее юности), ни отелей она не любила. Наверное, кому-то было надо, чтобы она была, что называется, «под рукой». Впрочем, ведь это, должно быть, ненадолго…. Но как оно будет в действительности? «Живем — висим в воздухе <…> Материально все хорошо и даже очень, но: сознание определяет бытие! И сознание, что все это на час — который может быть затянется — как целый год затягивался — но от этого не переставал и не перестанет быть часом — мешает чему бы то ни было по-настоящему радоваться, что бы то ни было по-настоящему ценить», — сообщает она мужу в Москву.
Писать стихи она больше не хочет. Строчки приходят — она их не записывает. Но вот в сентябре 1938 года — в результате соглашения между Германией, Францией, Англией и Италией — от Чехословакии отторгнута Судетская область. Чуть ли не вся Европа против маленькой Чехии! Чехию предали. Ее Чехию — страну, которую она так любила, где ей довелось испытать самую сильную в своей жизни страсть, родину ее сына. Всегда равнодушная к политике, она теперь с нетерпением ждет, когда же Мур принесет утренние газеты. И она не понимает, как можно оставаться безразличным к трагедии маленького героического народа. «Я в цельности и зрячести своего негодования — совершенно одинока. Я не хочу, чтобы всех их — жалели: нельзя жалеть живого, зарытого в яму: нужно живого — выкопать а зарывшего — положить<…> «Какой ужас!» — нет, ты мне скажи — какой ужас, и поняв, уйди от тех, кто его делают или ему сочувствуют. А то: — «Да, ужасно бедная Прага», а оказывается — роман с черносотенцем, только и мечтающим вернуться к себе с чужими штыками <…> Я думаю, что худшая болезнь души — корысть. И страх».
«Любовь — дело» — эту формулу Цветаева пронесла через всю жизнь. Она сожалеет, что ей не 20 лет и она не может поехать в Чехию и взять винтовку в руки. Но она (даже и в 20 лет) не умела стрелять. Она умела писать стихи. И, уже решив, что для нее время стихов прошло, она включается в эту бойню так, как только и может поэт, — стихами. Чехия «позвала» — и она пришла на помощь: «Прокляты — кто заняли / Тот смиренный рай<…> Трекляты — кто продали, / Ввек не прощены!<…> Есть на теле мира / Язва: все проест!<…> Есть на карте место / Пусто: наша честь».
..А в марте — Германия оккупировала Чехословакию.
О, дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.
Пред чешскою крестьянкою —
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи ее надежд?
Пред горестью безмерною
Сей маленькой страны,
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??
О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!
И — быть может — самое гениальное стихотворение из «Стихов к Чехии» (хотя трудно выбирать из гениального самое гениальное).
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
Пакт Сталина с Гитлером еще не заключен. Но интуиция уже подсказывает Цветаевой, что те же «нелюди», которые погубили ее мужа, «затмили весь свет», превратили весь мир в «Бедлам». (И неудивительно: еще несколько лет назад она ставила знак равенства между коммунизмом и фашизмом.) А «плыть вниз по теченью спин» Цветаева не могла, не умела и не хотела.
У нее будет много причин для самоубийства. Но важнейшая высказана уже в этом стихотворении — за два с лишним года до гибели.
«Подумайте, Марина Ивановна! — уговаривала ее Зинаида Шаховская. — Ну как Вы с вашим характером, с вашей нетерпимостью сможете там ужиться». — «Знайте одно, — отвечала Цветаева, — что и там я буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не палачами».
Наконец разрешение (точнее, наверное, приказ) на выезд получено. 16 июня 1939 года Цветаева с Муром вышли из отеля, сели на поезд, едущий в Гавр, оттуда — на пароход. Накануне случайно встретился Родзевич: «…он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Мура и мне — пошел в середине как ни в чем не бывало». Впрочем, так ли уж случайно? В последнее время Родзевич часто виделся если не с Цветаевой, так с Муром, ходил с ним в кино, в кафе, «…он (Родзевич. — Л.П.) поздравил с известием о нашем отъезде в СССР, и купил цветы, и дал мне, и был очень рад» (из дневника Мура). Возможно, Константин Болеславович хотел в последний раз увидеться с Цветаевой, искал с ней встречи.
Никто их не провожал — не разрешили. Из поезда она написала последнее письмо А. Тесковой (всего их известно 120): «Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — судьба». Она знала, что ее судьба — гибель («Дано мне отплытье / Марии Стюарт», 5 июня 1939 г.).
Часть IV
НАЧАЛО КОНЦА
ГЛАВА 1
На пароходе
Болшево
Аресты
Допросы
Читая некоторые записи Цветаевой, сделанные на пароходе (с записной книжкой Марина Ивановна не расставалась никогда), можно подумать, что она отправилась в туристскую поездку. Так внимательно рассматривает она берега, так любуется красными, приветливыми крышами Швеции, сказочными лесами Дании, замком — крепостью — храмом Копенгагена. «Стояла и глядела и от всей души посылала привет Андерсену — плававшему по тем же водам». А какие закаты на море! С малиновой пеной волн, а на небе — «золотые письмена». «Я долго старалась разобрать — что там написано? Потому что — было написано — мне». Ей «безумно» нравится Балтийское море, гораздо больше, чем Средиземное. Правда, есть и такая запись: «Ходила по мосту, потом стояла и — пусть смешно! — не смешно физически ощутила Н<аполеона>, едущего на Св. Елену. Ведь — тот же мост: доски. Но тогда были — паруса, и страшнее было ехать». И все-таки в жизни Цветаевой лучше этих дней больше не будет ничего.
Пароход прибыл в Ленинград. На следующий день она уже была в Москве. Когда-то она мечтала вернуться в Россию «желанным и жданным гостем». Надо ли говорить, что о прибытии Великого русского поэта не оповестили газеты? На вокзале ее встречала только Аля. Сергей Яковлевич болел. Наверное, первый вопрос Марины Ивановны был о сестре Асе: почему от нее так долго нет писем? И тут уж Аля вряд ли скрыла: и Анастасия Ивановна, и ее сын репрессированы. За что? На этот вопрос дочь ответить не могла. Да скорее всего она об этом мало и думала. Аля была поглощена своим счастьем: она влюблена и любима. В журналиста Самуила Гуревича, по совместительству работавшего и на органы. Вероятно, ему было поручено наблюдать за Алей, но он вошел в роль и увлекся не на шутку.
Из Москвы Цветаева с Алей сразу же поехали в подмосковный поселок Болшево — там на даче, принадлежащей НКВД, в поселке «Новый быт» жил теперь Сергей Эфрон. Дача была на две семьи — вторую половину занимали его друзья по Парижу и по «совместной работе» — Клепинины. (Под фамилией Львовы, а Сергей Яковлевич жил под фамилией Андреев.)
Как они жили? Дмитрий Сеземан вспоминает: «…в 1938 году жизнь на болшевской даче протекала странно, хотя и спокойно. Странно потому, что обитатели ее жили безбедно, несмотря на то, что из нас всех только Аля работала в редакции московского журнала «Ревю де Моску» на французском языке [40]. Сам же Сережа предавался сибаритству, совершенно не свойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, иногда жаловался на здоровье, не уточняя, что у него болело (в это время Сергей Яковлевич уже действительно был серьезно болен — сдало сердце. — Л.П.), и ждал гостей. Гости у нас не так чтобы толпились, однако бывали. Приезжала Сережина сестра Елизавета Яковлевна Эфрон<…> Она была режиссером у знаменитого чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева, который часто ее сопровождал и пробовал на ней свои новые работы.