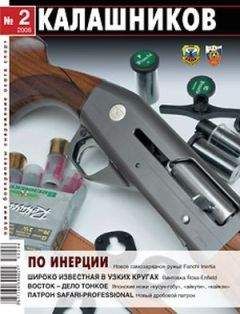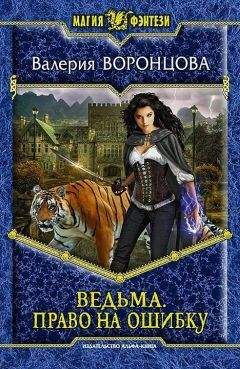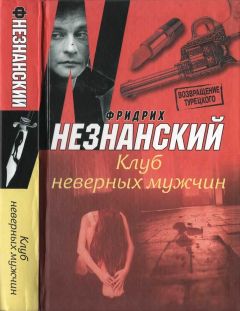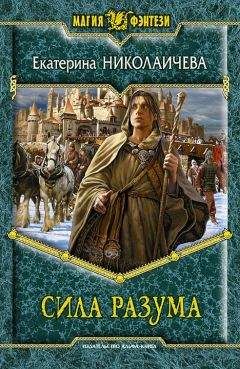Тамара Заверткина - Мои Турки
Как же поживали в то время наши Турки? Сережа закончил партийную школу и получил назначение на работу в соседний район — в Аркадак. Он перевез туда семью и стал работать секретарем райкома партии. Промышленность страны заметно набирала свой темп, и правительство стало уделять большое внимание сельскому хозяйству, колхозы объединяли в более крупные хозяйства. Сережу назначают вскоре председателем объединенного большого колхоза, и вся их семья переезжает в другое село в колхоз. К этому времени у них рождается третий сын — Саша.
Дома остались только старики: прикованная параличом к постели мама Наташа и старенький папа, мой дед, всю свою жизнь проработавший в колбасной мастерской. Он продолжал работать и в после-пенсионные годы и ушел на отдых, когда годы клонились к семидесяти. Никогда не боявшийся простуды, в последние дни часто жаловался на сердце.
Мама заикнулась перейти жить в родительский дом, чтоб удобнее ухаживать за престарелыми родными. Сергей Венедиктович об этом не хотел и слушать: в своем гнезде он чувствовал себя полным хозяином, и что-то в жизни менять не хотелось.
Уговорили перейти жить к старикам их бывшую соседку Машу Туркину. Избушка ее еще задолго до войны развалилась, и Маша жила попеременно у дальних родственников, чувствуя себя обузой.
Она переселилась в наш дом. Была она уже пожилая, очень высокая и почти совсем глухая. Старенький папа ухаживал за мамой Наташей: переворачивал, сажал, укладывал. Маша занималась хозяйством: варила, мыла полы. По пути на работу и с работы заходила к ним мама и чем могла — помогала.
Но дед слабел. Часто вызывали «скорую». Говорил, что сердцу легче от сахара, и кусочек сахара всегда был при нем. (Он и умер с кусочком сахара в кармане и с рублем для игры в карты (блюндери). Это было там очень распространено).
— Отец, уж ты держись как-нибудь, не умирай. На кого же мне тогда надеяться? — просила мама Наташа.
— На саму себя, — со слезами в глазах сказал дед.
И вдруг он снова почувствовал сердечный приступ, прошел в другую комнату, сел на диван и попросил Машу принести ему воды. Но когда Маша подошла с кружкой, он был уже мертв.
От неутешного горя мама Наташа ослепла мгновенно. Гроб еще не вынесли, а она уже не узнавала людей. Навсегда с тех пор перестали видеть глаза, всю свою жизнь смотревшие на строчку машины, чтоб одеть всю семью, а также подзаработать для детей, внучки, а в войну и для Сережиной семьи.
Маша Туркина в доме остаться отказалась, ей было не под силу ухаживать одной за парализованной.
Нанялась молодая женщина с мужем и детьми. Согласились на условиях: что, кроме платы деньгами, всю семью будут и кормить. Материальные расходы взял на себя дядя Коля, помогая тайком от своей скупой жены. Немного отрывали от себя и Сережа с Марусей. Ма-руся в отличие от тети Тоси была щедрой, но у них была большая семья, Сережа приезжал в Турки редко. Мама была в родном доме постоянно, видела, как плох уход за матерью и многое делала сама, разрываясь между двумя домами. Больно ей было и оттого, что из дома исчезали вещи.
Мама рассчиталась на работе, нашла новую сиделку, некую Раю, и теперь уже ухаживали за матерью вдвоем. Мама, выкроив чесок, бежала и в свой дом, приготовить еду, убраться. Уходила домой и на ночь.
Однажды, как обычно, придя утром, она застала маму Наташу лежащей на полу.
— Дочка, я так валяюсь со вчерашнего дня, когда поняла, что Райка сбежала, — заплакала мама Наташа, — долго кричала, звала кого-нибудь, собрала силы и попыталась встать, но упала на пол.
Да, Райка вынесла из дома все последнее, что еще можно было унести и сбежала.
На этот раз мама безотлагательно приняла решение переходить в родительский дом, убедила в этом Сергея Венедиктовича.
Дом изнутри разрушался, все закопчено, трескалась и отваливалась штукатурка. И мама принялась за большой ремонт. Немало было потрачено сил, но все она отремонтировала собственными руками, а папа Сережа обил дом снаружи.
— Дочка, хорошо у нас теперь? — спрашивала слепая мама Наташа.
— Очень хорошо, мама.
В эти дни в Турки приехал дядя Коля.
— Я счастлив, — сказал он, — что дом попал в хорошие руки. Все дни он был веселым, но в день отъезда очень загрустил. Мама
вышла зачем-то во двор и увидела дядю Колю, прислонившегося лбом к задней стенке дома. Плечи его вздрагивали.
— Николай, что случилось?
— Ты и не представляешь, Катя, как трудно уезжать из дома. Вот он для меня все равно, что живой человек. Да что дом? Кажется, каждая соломинка во дворе грустно смотрит и говорит: «Ты опять уезжаешь?». Но я спокоен за мать, и буду материально помогать.
А болезнь мамы Наташи прогрессировала, нестерпимо болели суставы и мышцы, не позволяли оставаться в неподвижном состоянии, а сама ни рукой, ни ногой шевельнуть она не могла. Но стоит организму придать другое положение, как боль утихает. Однако, через несколько минут невралгия снова дает о себе знать с непередаваемой силой, беспомощное тело оставалось неподвижным, и мама Наташа опять с мольбой звала маму повернуть ее, уложить по-другому.
— Мама, я не успеваю до кровати порой дойти, а ты опять зовешь, я почти не сплю. Когда же будет покой? Когда все это кончится? — порою в сердцах говорила мама.
— Эх, дочка, наживешься и без меня. Я терпеливая, но нет сил выносить боль. И не стала бы я тебя тревожить, если б хоть что-то могла сама. Мухи по лицу ползают, а согнать не могу.
Вскоре отнялся и язык. Работал только мозг. И на вопросы она могла отвечать маме только ничего не видящими зрачками слепых глаз да веками.
Третьего декабря 1954 года в возрасте семидесяти четырех лет мама Наташа умерла.
Зима была суровая. У Люды не снижалась температура, Рэмир был в командировке, так как стройобъекты у них были не только в Орске. Мне так и не пришлось выехать на похороны бабушки, которая большинство лет заменяла мне мать.
Рэмира из командировок мы с Людой всегда очень ждали. Они были непродолжительными, по четыре-пять дней, но все равно, когда наша семья собиралась вместе, в этот день хотелось получше организовать стол, чтоб вечер был похож на праздник.
Жили мы тогда все еще в квартире на две семьи. Вокруг дома не было ни одного дерева, и, собираясь на улицу, Люда обычно говорила:
— Мама, отпусти меня в пыль.
И это соответствовало действительности. Ветер поднимал песок и пыль. Это называлось орским дождем. И ребенок, сидя на корточках, пересыпал пыль совочком в ведерко и назад в кучу пыли. Ей по-прежнему сопутствовала частая повышенная температура и плохой аппетит. Врачи рекомендовали чаще бывать на воздухе. Но не такой воздух ей был нужен.
Вскоре мы получили отдельную квартиру, маленькую, правда, но мы жили уже без соседей, и поэтому все трое были очень рады. В нескольких метрах от нашего дома был Дом культуры строителей, и мы с Рэмиром чаще могли ходить в кино.
Летом я снова вывезла Люду в Турки, в наш райский уголок, где чистый воздух, вкусное молоко, любая ягода. Рэмир, как правило, летом отпуск не брал, так как летом обычно бывает самый наплыв строительных работ. Но Люде был на пользу воздух Турков.
Мою маму в Турках она никак не могла называть бабушкой: мама выглядела моложе своих лет.
— Какая же это бабушка, — удивлялась Люда, — если она всегда красит губы?
И она стала называть ее мамой Катей, а Сергея Венедиктовича — папой Сережей. Вскоре, как и Люда, я его тоже стала звать папой Сережей.
Теперь в Турках я старалась держать девочку в основном только на воздухе.
Из Орска не было ни одной весточки. Потом, наконец, получили письмо, текст которого не сразу доходил до сознания. Рэмир писал о том, что к нему приехала мать, а так как я опасаюсь контакта, то для всех нас будет лучше, если мы с ним жить теперь будем отдельно. От материальной помощи ребенку он не отказывается, но нам расстаться предлагает.
Письмо сразило всю семью. Я не верила в реальность этих строк. Наоборот, в памяти всплыло другое: институт, я даю Рэмиру согласие выйти за него замуж.
— Даю честное партийное слово, что никогда не оставлю тебя, — он был тогда уже коммунистом, хоть и возглавлял комсомол.
Я дала только комсомольское слово, так как точно знала, что сдержу его, потому что в школьные годы я единственная жила не так, как все подруги: вместо родителей — с бабушкой и дедушкой. Завидовала одноклассницам, но по сложившимся обстоятельствам мама не могла меня брать к себе. Да я и сама была словно частицей того дома, где родилась и росла.
В подростковом возрасте я не понимала всей горечи не слагавшейся судьбы мамы, стыдилась ее замужеств или того, что за ней ухаживали. На колючки досужих соседок у мамы Наташи всегда находился нужный ответ:
— Значит, того стоит, раз ухаживают.
И еще тогда, в детские годы, я решила: если выйду замуж и будут дети, никогда не уйду от мужа, как ушла мама от моего отца.