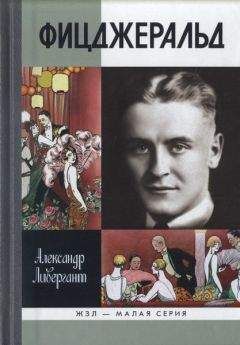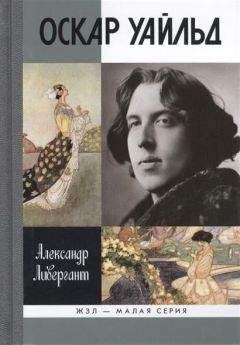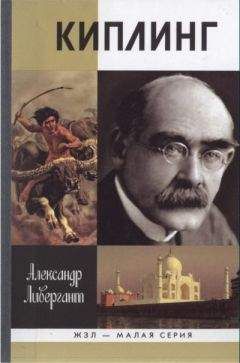Александр Ливергант - Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей
— Ах! — воскликнула Пидди. — Именно этим грешила и моя подруга. У нее на правом плече было голубое пятно, которым она очень гордилась и так долго им любовалась, что чуть не свернула себе шею. Я же считаю, что не тело красит вошь, а дело.
Мне поневоле вспомнился один мой знакомый, нелепый старый лорд, который так-таки вывихнул себе шею, ибо не сводил глаз с рыцарской звезды у себя на груди, — и я, рассмеявшись, проснулся. Сон этот пробудил во мне мысли, которыми не стану Вам докучать. Вместо этого возвращусь к теме моего письма и задам Вам, мистер Цензор, вопрос: не является ли молчание следствием замкнутого, угрюмого нрава? Следствием того, что принято именовать «хандрой», «зеленой тоской»? Не является ли мой компаньон тем, кого называют «человеком в себе», «витающим в облаках», «не от мира сего» и пр. Подобное поведение, однако, свойственно либо особам утонченным, которые, если вы осведомляетесь об их знакомом, с которым они недавно повздорили, ответят вам: «Право не знаю, мы давно уже не говорили…», либо простым крестьянам. В самом деле, если между пахарем и его женой произошла размолвка, хранить молчание они будут целую неделю. Однажды мне случилось оказаться в обществе фермерского сына и его невесты. Разговор зашел о вздорном нраве, и фермерский сын, чтобы возвысить себя в глазах девушки, заявил, что в жизни никогда ни с кем не ссорился. Ибо, пояснил он, «если только отец с матерью или кто из близких скажет мне хоть слово поперек, я с ним почитай полгода разговаривать не стану». Подобного заявления вкупе с ухаживанием другого парня, более сговорчивого, оказалось вполне достаточно, чтобы помолвка расстроилась. Подобное поведение людей малограмотных не вызывает у меня ничего, кроме смеха; когда же такое происходит в семействах благородных, меня, признаюсь, это не может не огорчать. И то сказать, какое печальное зрелище являют собой отец и сын, муж и жена, братья и сестры или же двое близких друзей, что живут в одном доме, сидят в одной комнате — и молчат, точно они не близкие родственники и друзья, а всего лишь постояльцы либо люди и вовсе незнакомые. Но мой компаньон, я нисколько в этом не сомневаюсь, не таков. Вот почему мне хотелось бы, мистер Цензор, чтобы вы разобрались в этой истории и объяснили мне, отчего столь разумный человек ведет себя столь необычно. Et eris mihi magnus Apollo [51].
Сэмюэль Джонсон {126}
Аллегория критики
Virtus repulsae nescia sordidae
Intaminatis folget honoribus:
Nec sumit aut ponit secures
Arbitrio popularis aurae.
Hor. Lib.III, II [52]Задача всякого автора состоит в том, чтобы либо сообщать то, что еще неизвестно, либо предлагать читателю известные истины в своем представлении. Либо открывать новые горизонты, либо преображать привычное, дабы увидеть его в новом свете, придать ему большую привлекательность, украсить своими образами те области, где человеческий ум уже побывал, и тем самым склонить его вернуться и посмотреть еще раз на вещи, по которым мы — по невниманию или по легкомыслию — лишь скользнули небрежным взглядом.
Каждая из этих задач очень трудна: для достижения цели читателя необходимо не только убедить в его ошибках, но и примирить с тем, что им руководят; он должен не только признать свое невежество, но, что еще менее отрадно, допустить что тот, у кого он учится, более осведомлен, чем он сам.
На первый взгляд подобное занятие может показаться достаточно утомительным и рискованным, а потому едва ли найдутся люди, настолько недальновидные, чтобы совершенно беспричинно приумножать сизифов труд; мало кому захочется таким образом воспрепятствовать своему собственному продвижению в обществе, тем более что времени и сил на это занятие уйдет немало, риск неудачи огромен, шанс же преуспеть весьма невелик. И тем не менее есть на свете люди, которые либо считают своим долгом, либо забавой препятствовать продвижению всякого творения ума или воображения; которые зорко охраняют путь к славе и считают себя вправе отнестись к своей жертве с небрежением и завистью.
Без рекомендаций искать подход к этим людям, именующим себя критиками, начинающим авторам не следует. При наличии же рекомендаций даже самые зловредные из этих гонителей, возможно, немного смягчатся и, пусть и ненадолго, сменят гнев на милость. Ведь если вспомнить древние времена, то даже Аргуса убаюкала музыка, даже Цербер затих, когда ему заткнули глотку {127}. А потому я склонен полагать, что и современных критиков, которые даже при отсутствии зрения отличаются зоркостью Аргуса, да и лают ничуть не тише Цербера (хотя, быть может, и не способны так же больно кусаться), можно смягчить подобными способами. Я сам слышал, как одних умиротворили красное вино и сытный ужин, а других вогнали в сон нежные мелодии лести.
Хотя природа моих занятий дает мне повод опасаться нападок этого жестокого племени, я тем не менее не принимаю мер к отступлению или к заключению перемирия. Все дело в том, что я пребываю в сомнении относительно законности их действий и подозреваю, что они существенно превышают свои полномочия, являются самозванцами и ссылаются на решение высшего суда, не имея на то никаких оснований.
Критика, на чей авторитет они ссылаются, решая писательские судьбы, всегда была старшей дочерью Труда и Истины; при рождении ее препроводили заботам Справедливости, которая воспитывала ее во дворце Мудрости. В поощрение своих незаурядных способностей она была назначена небожителями воспитательницей Фантазии и ей доверено было дирижировать хором муз, когда те пели перед троном Юпитера.
Когда же музы снизошли до посещения нашего бренного мира, их сопровождала Критика, которой, когда она спускалась с небес, Справедливость вложила в правую руку скипетр. Один его конец был пропитан амброзией и украшен золотой листвой амаранта и лавра, другой увит кипарисом и маками и опущен в воды забвения. В левой же руке она несла негасимый факел, изготовленный Трудом, освещенный Истиной и способный выявить сущность любого произведения, каким бы обманчивым его видимость ни была. Как бы Искусство не стремилось его усложнить, а Глупость не тщилась сбить нас с толку, стоило факелу Истины это произведение осветить, как оно тут же представало во всей своей первозданной простоте; факел пронизывает своим светом самые темные закоулки софистики и немедленно выявлял все несуразности, в этих закоулках таившиеся. Он проникает под одежды, которые Риторика нередко продавала Клевете, и обнаруживал несоразмерность членов, каковую пытались скрыть под искусственной завесой.
Вооруженная таким образом для выполнения своей миссии, Критика спустилась на землю, дабы проследить за теми, кто заявлял о себе как о приверженцах муз. Ко всему, что представляли ей на суд, она подносила негасимый факел Истины и, удостоверившись, что законы правдивой литературы соблюдены, касалась книг золотой листвой амаранта и предавала их бессмертию.
Гораздо чаще, однако, случалось, что в творениях, требовавших ее изучения, таился какой-то обман, что ее вниманию предлагались старательно выписанные, но фальшивые образы, что между словами и чувствами скрывалось какое-то тайное несоответствие, что идеи не совпадали с их конкретным воплощением, что имелось много несообразностей и что отдельные части задуманы были лишь для увеличения целого, никоим образом не способствуя ни его красоте, ни основательности, ни пользе.
Где бы ни делались подобные открытия, а делались они всякий раз, когда совершались подобные ошибки, Критика отказывала в прикосновении, даровавшему творению бессмертие; когда же ошибки оказывались многочисленными и вопиющими, она переворачивала свой скипетр, капли Леты стекали с маков и кипарисов, и смертельная эта влага начинала разъедать книгу, покуда не уничтожала ее вовсе.
Испытанию подвергались и такие сочинения, в которых, сколь бы яркий свет на них ни падал, достоинства и недостатки были настолько неотделимы друг от друга, что Критика застывала со своим скипетром в нерешительности, не зная, что на них лить — воду забвения или амброзию бессмертия. Число подобных сочинений возросло в конце концов настолько, что Критике надоело разбирать столь сомнительные притязания, и из страха использовать скипетр Справедливости неподобающим образом она сочла, что передаст их на суд Времени. Суд же Времени, хоть и был затяжным, в целом, за вычетом некоторых досадных чудачеств, оказался справедливым; и многие из тех, кто полагал себя в безопасности после проявленной снисходительности, испытание Временем не выдержал и канул в Лету в тот самый миг, когда, победоносно потрясая своими томами, мчался на всем скаку к будущим успехам. С одними Время рассчиталось постепенно, с другими же покончило одним ударом. Поначалу Критика не спускала глаз со Времени, однако, удостоверившись, что дело свое Время делает хорошо, она ушла с земли со своей покровительницей Астреей, предоставив предрассудкам и дурному вкусу, пособникам мошенничества и зловредности, подвергать литературу разрушительному действию и довольствуясь впредь тем, чтобы оказывать влияние издалека лишь на те избранные умы, которые своими знаниями и добродетелями ее достойны.