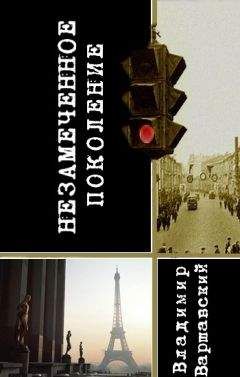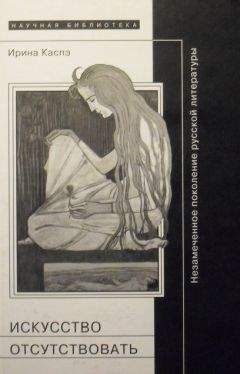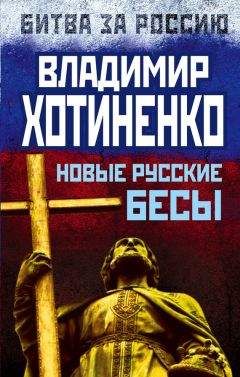Владимир Варшавский - Родословная большевизма
Убеждения и миросозерцание всех этих людей были известны по их книгам и статьям, по всей их многолетней общественной деятельности.
Другое дело — младшая группа, Монпарнас. Из-за крайней скудости монпарнасской публицистики о настроениях «молодых» писателей судили по «Числам»,[10] главным образом по «Комментариям» Адамовича и еще по фантастическим слухам о монпарнасских «оргиях». Большинство друзей Фондаминского не понимали, зачем он стал приглашать всех этих «огарочников». Это еще более увеличивало трудность общения между двумя группами, и нужны были кротость и долготерпение Фондаминского, весь его упрямый оптимизм, чтобы не дать «Кругу» распасться.
«Парижская школа» была чужда «Новому Граду» не только в своих внешних проявлениях, но в самом глубинном ощущении жизни.
Если в известных кругах эмиграции рост эсхатологических настроений сопровождался страстным обращением к традиции, к вере в догматы и к храмовому благочестию, то на Монпарнасе возрождение «средневекового миросозерцания» выразилось главным образом в склонности толковать христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю.
Нельзя представить себе ничего более чуждого, ничего более противоположного «Новому Граду», чем близкие к Маркиону, Шопенгауэру и Розанову представления о христианстве некоторых участников «Чисел».
«Есть древняя легенда, которую все знают, — говорил Адамович, — Бог не создал мир, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против его воли». Отсюда «в душу закрадывается соблазн: не надо ли «погасить» мир, то есть на это работать».
Гностический соблазн имел власть и над душой другого идеолога Монпарнаса, Б. Поплавского. Он часто взволнованно и восхищенно обсуждал утверждение Маркиона, что добрый, любящий нас Бог, Отец наш Небесный, о котором говорил Христос, вовсе не был ветхозаветным, сотворившим землю гневным, ревнивым и мстительным Богом — Судией и Богом воинств. Увлечение гностикой отразилось и во многих стихах Поплавского. В «Снежном часе» он пишет:
Солнечный герой, создавший мир, Слушай бездну, вот твоя награда. Проклят будь, смутивший лоно тьмы, Архитектор солнечного ада.
«Как ты смел!» — былинка говорит, «Как ты мог, — волна шумит из мрака, — Нас вдали от сада Гесперид Вызвать быть для гибели и мрака».[11]
На Монпарнасе никто, насколько мне известно, сознательно не следовал известной теории о том, что русское народное православие восприняло через богомильскую ересь маркионово понимание христианства и что именно это определило все развитие русской культуры, начиная с былин об Илье Муромце и сказания о граде Китеже и кончая творчеством величайших русских гениев XIX века. И все-таки христианское начало русской литературы часто понималось на Монпарнасе именно в маркионовом духе.
В век, когда в христианстве обычно еще видели иудаизм, только ставший вселенским, и когда благочестие многих христиан уживалось с верностью законнической традиции, Маркион учил о противоположности Евангелия Закону. Мысль об этом, как вспышками молнии, освещается многократным повторением слов: «Вы слышали, что было сказано древним… а я говорю вам…»
Но, почувствовав сердцем, что сущность христианства — в откровении мистической любви, Маркион не понял огненной природы этой милосердной и жертвенной любви, зовущей, в отличие от всех предшествующих форм мистицизма, не к созерцанию и личному потустороннему спасению, а к творческому, преображающему мир действию. Значение этого подготовленного еврейскими пророками перехода от созерцания к действию не дошло до сознания Маркиона, и именно в этом сказалась ограниченность его религиозного гения. Несмотря не глубокое интуитивное понимание божественности и абсолютной новизны Нагорной проповеди, он в своем отвержении видимого космоса выпадал из христианства и был близок к тому, что условно можно назвать «вечно буддийской» стадией религиозного опыта.
Влияние мысли Маркиона, родившейся из глубокого чувства евангельского милосердия, но омраченной безумием отрицания мира, двойственно окрасило и весь монпарнасский мистицизм, придав некоторым стихам «парижской школы» неотразимое очарование и вместе с тем какой-то смущающий душу привкус нигилизма.
Когда редакция «Чисел» попросила Федотова высказаться о первых книгах журнала, он прежде всего отметил опасность этого увлечения гностическими мифами, подменяющими христианство «буддизмом».
«Борьба, которая ведется сейчас в мире за человеческий дух, — утверждал он, — и есть борьба между Буддой и Христом, между нирваной и вечной жизнью… И я боюсь, хоть и хотел бы ошибиться, — что тема смерти оборачивается в «Числах» темой нирваны».
То, что именно тут проходила черта, разделявшая «Новый Град» и «Числа», подтверждает и статья Адамовича, в которой он говорит о «Новом Граде» с чрезвычайной, не свойственной ему резкостью: «Еще гораздо страннее (если бы не была так давно знакома) добродетельная новоградско-утвержденская модернистическая кашка из приторно нестеровского православия и социалистических достижений, вся эта вообще революция на лампадном масле… Главное: они хотят строить реально, во времени и истории, на земле, — и не чувствуют неумолимого или — или, разделяющего христианство и будущее Если иногда и чувствуют, то конфеток новейшего производства у них припасено достаточно, чтобы внезапную эту горечь заглушить».
Как мы видели, Милюков обвинял «Новый Град» в прямо противоположном — в выдвижении общения с Богом против общественного служения и т. п. Отвечая Адамовичу, Степун очень справедливо указал, что борьба «Чисел» против «тупости славянофильства» означала «не борьбу западников против национальной России, а, как это ни странно, скорее борьбу каких-то новых восточников, буддийствующих христиан против западничества славянофилов, против их, чуждой Востоку, мироустремлённой хозяйственности и бытолюбивой плотяной тяжести».
Этому спору было посвящено и одно из первых собраний «Круга». В своем вступительном слове на этом собрании Мочульский говорил о ложности распространенного представления, что мир и христианство внутренне враждебны. Указав, что в наиболее крайней форме, близкой к манихейству, утверждал это Розанов, Мочульский старался убедить Монпарнас в несовместимости мироненавистнических настроений с духом евангельской любви.
Правда в этом споре с «Числами» была на стороне «Нового Града». Но те новоградцы, которые выводили отсюда осуждение Монпарнасу вообще, мне думается, были несправедливы. Так же, как «отцы»-позитивисты, они не умели отличить в декадентско-мистической атмосфере Монпарнаса подлинное и трагическое от болезненного и ошибочного. Они не верили в серьёзность монпарнасских «романов с Богом», и в мужестве отчаяния, с каким монпарнасцы рассматривали абсурдность положения человека в мире, и в их отказе от готовых утешений того или иного конформизма видели разложение, упадок и т. д. Впоследствии, в напечатанной в «Ковчеге» статье о парижской школе, Г. П. Федотов эту ошибку исправил. Тут нужно сделать еще одну оговорку. Монпарнас судили главным образом по «Числам». Между тем, хотя «Числа» и были журналом «парижской школы», они все-таки не отразили всего, чем жил Монпарнас, и, в частности, той неясно возникавшей на Монпарнасе идеи, о которой я говорил. К сожалению, эта идея вообще никем никогда не была высказана в письменной форме. Но именно она вдохновляла разговоры «русских мальчиков» на Монпарнасе в его лучшие часы. Именно она, в годы войны и оккупации, привела многих монпарнасских «декадентов» во французскую армию и в движение Сопротивления.
Фондаминский, единственный из всех «отцов», чувствовал зарождение этой идеи, делавшей «возможной встречу между Монпарнасом и «Новым Градом».
Интерес к общественным вопросам, усиливаемый чувством беспокойства перед надвигавшимися грозными событиями, был так силен у многих участников «Круга», что, наряду с собраниями, посвященными литературным и философским темам, стали возможны собрания политические. Постепенно образовался как бы политический отдел «Круга», призванный, по замыслу Фондаминского, стать зачатком нового ордена. К участию в этих политических собраниях он привлек и группу молодых монархистов-легитимистов, отколовшихся от младоросской партии и издававших свой собственный журнал «Русский временник». Этот монархический журнал достоин особого внимания, ибо он страстно защищал тот самый «демо-либерализм», от которого с таким презрением отворачивались и евразийцы, и солидаристы, и все пореволюционные течения.
Верность принципу легитимной монархии сочеталась в идеологии «Русского временника» с приятием «субстанции» демократии и решительным осуждением тоталитарных режимов.