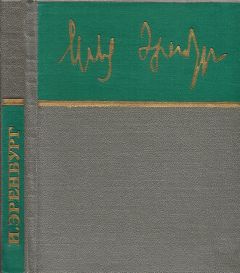Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах
Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о «беззаконных действиях» Сталина, Хрущев оговаривал, что Сталин был честным коммунистом и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили, он был бесчеловечен.
Я не политик, а писатель, казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина; однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель, но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о «серьезных ошибках Сталина», но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему Тринадцатый съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина Генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что Сталин, договариваясь с одной группой Политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы два или три года спустя унизить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом «Коба» революционного подполья, известный только тысяче-другой партийных работников, десять лет спустя превратился в «отца народов»? Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий, в индустриализации отсталой страны, в обороне Родины от слывшего непобедимым рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему вразрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, но словам Ленина, и малоизвестного человека в «вождя», «кормчего», «полководца», которого ежедневно восхваляли члены Политбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса.
XX съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в IV веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов; однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей старого Олимпа.
Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа; они говорили о «роковом ударе», якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшила скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая, не очень громко, чтобы не расслышали хозяева, говорили о «разнузданности» студентов: «К ним нельзя показаться…» Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений: меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось то новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью.
В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио — передавали торжественное заседание по случаю двадцатилетия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал; не думаю, чтобы таких было много. Наверно, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности: Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а теперь ничто не мешает им спокойно спать.
Вернусь к весне 1956 года. Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать…» Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить. Не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был молоденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья.
7
Вдова моего друга Роже Вайяна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года — она относится ко времени действия моей книги:
«8 июня.
Возвращение из Москвы.
Две недели назад, когда и приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут…
Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил: «далее». Мне это нравилось. Но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом…
Никогда больше я не повешу на мои стены чьего-либо портрета.
В углу над пачкой с книгами о французской революции висели две большие гравюры той эпохи — «21 января 1793 года» и «16 октября 1793 года». Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову Капета; на другой — палач подымает нож гильотины, его помощники ведут на эшафот Марию Антуанетту, толпа аплодирует. Будь я членом Конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, я хочу сказать, что и теперь при подобных обстоятельствах я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою.
Сердце у меня не чувствительное. Когда я порвал с женщиной, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо. Но я не заплакал…
В июне 1940 года при разгроме моей страны я не пролил ни одной слезинки, я скорее был доволен — французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям.
Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы, всю ночь я проплакал — я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеянии.
В одну и ту же ночь я плакал над Мейерхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мейерхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского «Юлия Цезаря»:
«Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю»,
Я повторяю: «Я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю…»
Я себя чувствую мертвым.
Кажется, что ты на гребне времени и вдруг видишь, что История вступила в новую фазу, а ты этого не заметил…»
Я переписал эту страницу из дневника Вайяна и задумался: какое у нас проклятое ремесло! Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Вайян вспомнил о своей тяжелой болезни: «Очень важно вот что: как только я понял, что я не умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви… Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве: «Мы уже никогда не сможем быть счастливы». Я — писатель, следовательно, я не имею нрава на полное несчастье».
А в действительности Роже Вайян был вдвойне несчастен — и как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни, иногда человек вмешивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Вайян не думал о Цезаре и Бруте — он не писал, он плакал.
Вайян любил людей XVIII века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных — однако в то же время трезвых, — кардинала Берни, авантюриста Казакову, автора романа в письмах «Опасные связи» Лакло. Среди писателей прошлого века он особенно чтил Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля — и когда рассказывал, как к осужденному Жюльену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из Чивитавеккья признавался своему двоюродному брату: «У меня две собаки, я их очень люблю. Английский спаниель, черный, красивый, но печальный меланхолик, другой «лупелло» — волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургундца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить…»
Когда Вайян умер, все газеты писали о его «холодном взгляде». Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. Я никогда не видел «холодного взгляда» — его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было.