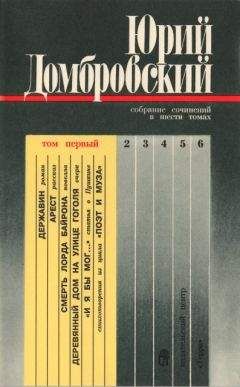Всеволод Кочетов - Собрание сочинений в шести томах. Том 6
Мы раздумывали об этом, уже давно пересев со ствола холодного, сырого дерева на охапку еловых лапок, набросанных возле лесной канавы. На такие раздумья нас навели страстные, умные рассказы полковника Ермакова о людях. Он рассказывал и о боях, о многих боях, но то были не просто боевые эпизоды, которых вам сколько угодно порасскажут в любой из сражающихся частей. Через боевое дело он раскрывал характер человека, и человек вставал перед нами как живой.
Командир полка полковник Ермаков знает не только командиров и политруков в батальонах, в ротах. Он называет одну за другой и фамилии рядовых, отличившихся в боях. Стрелок Наумец, артиллерист Чуваев, писарь Касаткин… Командир полка называет и называет их, как бы все еще отвечая на наш главный вопрос: в чем же сила бондаревцев?
— А еще чему учат у нас в дивизии? — говорит оп. — Тому, что боец — это хозяин своего рубежа. Занял место — держи его. Не жди: вот, мол, подойдет враг, тогда начну действовать. Есть колючая проволока — протяни ее перед собой, устрой завал на пути противника, расчисть сектор обстрела. А основное — глубже заройся в землю, лучше замаскируйся. Сделай все, чтобы преградить дорогу врагу, а самому быть неуязвимым. Словом, не жди по любому поводу указаний и приказов, проявляй во всем инициативу, самостоятельность. А когда уже вырыт окоп, когда укреплен занятый рубеж, боец психологически привязан к этому месту. Как бы враг ни напирал, боец не побежит назад, зная, что само это место защищает его. Нынешняя война — во многом война нервов. Противник стремится подавить психику наших людей, сломить нашу волю к сопротивлению. А мы прививаем бойцам выдержку, хладнокровие. Мы говорим: не так страшен немец, как он хочет казаться.
Неподалеку среди деревьев упали и разорвались две мины. Ермаков даже не обернулся на взрывы.
— Было так, — продолжал он, переждав, пока не перестанут валиться сучья, сбитые осколками, — восемнадцать танков почти неслышно, на очень малых оборотах подошли к позиции одного из наших подразделений. За танками, не отставая, двигалась немецкая пехота. Бойцы затаились в укрытиях. Ждут. Пропустили они танки над своими головами, над окопами, а пехоту встретили в штыки. Атака была отбита. Победила выдержка. А начни они палить навстречу танкам… Ну, что бы они сделали со своим легким стрелковым оружием?! Выдержка победила и в другой раз. Полсотни «юнкерсов» — заметьте, полсотни! — целых тринадцать часов без перерыва… одни висят в воздухе, другие несутся за новыми бомбами… Так вот, тринадцать часов они, эти полсотни стервятников, бомбили наше подразделение. Стонал лес, дым и пыль скрыли от нас небо. Ну, ад — и только. Прямо-таки уже на сковороде или в котле со смолой. Но кончилась бомбежка, и из растерзанной земли, из окопов и щелей поднялись люди, готовые продолжать ожесточенную битву. Сотни, а может быть, там были и тысячи бомб, не принесли нам большого ущерба…
Трахнула мина. На этот раз еще ближе. В лица пахнуло взрывным газом, горячим ветром. Мины посыпались одна за другой. Застучали еще торопливей, чем прежде, пулеметы и автоматы, и в притихшем было на какие-то полчаса лесу разбушевались пороховые и нитротолуоловые стихии.
— По щелям! — скомандовал на этот раз Ермаков. И через минуту, когда все, кто был вокруг его КП, укрылись в землю, продолжал: — Теперь молодцы из фатерлянда зарядили на всю ночь. Их беспокоит наша разведка. Мы тут немцу житья не даем. Но и он по дает нам зазеваться.
— А почему же вы так близко к самому бою, к противнику устроили свой командный пункт?
— Ах, друзья, друзья! Вы же спрашиваете, в чем сила бондаревцев. Вот, в частности, и в этом. Боец все время должен чувствовать, что его командир рядом, что его командир всегда со своими бойцами.
10
Всей нашей бригаде стало ясно назавтра, почему военный комиссариат Октябрьского района с таким упорством отказывается призывать меня в армию. В предыдущий приезд в Ленинград я снова ходил к военкому, тот листал тощую папку с моим «делом», пожимал плечами. «Молодой человек, вы же «безусловно негодный к военной службе». Понимаете ли, «безусловно», так прямо и сказано». — «Я же в редакции, видимо, останусь. Не в нашей, так в какой-нибудь другой — в армейской или дивизионной. Мне ни перебежек не придется делать, ни ползать по-пластунски». — «Всяко бывает, всяко бывает. И журналисты ходят в бой. Вот понадобится идти в атаку, а вы за свое сердце схватитесь — и себя и товарищей подведете. Что тогда?»
Вчера вечером и сегодня ночью это «что тогда» было в какой-то мере продемонстрировано на практике. Длинный переход по лесу до КП стрелкового полка полковника Ермакова и еще более длинный обратный путь, когда мы оступались в темноте, на дорожных колдобинах, спотыкались о проволоку, падали в канавы, добираясь до машины, в которой мирно похрапывал Бойко, сделали свое дело. По приезде в Слуцк Михалев и Еремин щупали мой пульс, прикладывали уши к моей груди — слушали сердце.
— Я не доктор, — объявил Михалев, — и ты и Ваня, надеюсь, это знаете. Но даже и для меня ясно, что сердце у тебя того… или, вернее, не того…
Я не мог идти: подкашивались ноги. Не от усталости, пет, от чего-то более тревожного: в сердечных клапанах явно разладилось.
— Надо найти хороший, спокойный ночлег, — сказал Михалев. — Ты должен полежать, основательно отдохнуть.
Мы заехали к коменданту во дворец Павла I. Комендант сказал: «Ребята, треть домов в городе пустые. Выбирайте подходящие хоромы и ночуйте. Вот вам и все мое решение».
Серафим Петрович не спеша вел машину по ночным, пустынным улицам. Ну где тут можно «отдохнуть спокойно», когда в нескольких километрах от этих улиц идет жестокий бой? В райкоме с затемненными окнами? В типографии той газеты, в которой я когда-то работал? В нашей бывшей редакции, в тесных комнатках старого деревянного дома на главной улице? У кого-нибудь из знакомых?
Сворачивая в ту улицу, где была типография «Большевистской трибуны», мы при свете луны увидели вывеску: «Починка часов всех систем». Под вывеской — входная дверь, направо и налево от двери — две витринки, два окна, в которых старые будильники и старые ходики.
Дверь была не заперта, и мы вошли. Посветили фонариками. Полнейший разгром. Все, что еще как-то годилось, хозяева прихватили, видимо, с собой, эвакуируясь день-два назад, а остальное бросили. Горы хлама, в котором после отъезда хозяев кто-то еще и основательно порылся в надежде: а не осталось ли, мол, тут парочки золотых часов фирмы «Мозер» или «Павел Буре». Прилавок опрокинут, с мягких стульев содрана обивка, пружины поднялись вверх. Ящики, коробки с позеленевшими медными и стальными колесиками, ржавыми спиральками, пригоршнями изогнутых стрелок — часовых, минутных, секундных. Деревянные ломаные футляры от настенных часов, маятники — малые, средние, огромные. Гири, цепи, циферблаты. Банки с чем-то и банки ни с чем. Тряпки, веревки, палки, галоши, ботинки…
Если сдвинуть в сторону этот салат из принадлежностей мастерской часовщика, то откроется еще и старая, промятая тахта, с которой спороли плюш; драли его не целиком, а кусками, отчего тахта вся в лоскутьях. А за дощатой, оклеенной обоями перегородкой, где, видимо, было жилище этой семьи, оказалась и железная кровать — койка с пружинной сеткой.
Выяснив на всякий случай, есть ли у мастерской второй выход — он через кухню вел во двор, — мы залегли спать. Михалев и Еремин на тахте, а меня, как боль-лого, расположили за перегородкой на койке, постелив, конечно, все, что нашлось подходящего, на проволочную сетку.
Сегодня утром я уже мог бы и встать, ноги уже держали меня достаточно прочно. Но Михалев и Еремнп уговорили хотя бы с полдня поваляться. Накормили консервами «Бычки в томате» и сгущенным кофе, по обыкновению разведенным в холодной воде из-под крана, и отправились «на разведку»: «Пошукать, нет ли еще каких интересных частей в окрестностях Слуцка». А заодно и раздобыть ландышевых капель, которыми ограничиваются наши знания лекарств от болезнен сердца.
Перебрался в переднее помещение, где светлее. Затворил входную дверь на засов, чтобы не быть захваченным врасплох. Лег на кушетку. Лежу. Вокруг города бахает, трахает. Уже но то, что было полтора месяца назад: теперь я почти профессионально разбираюсь, где выстрелы наши, где чужие, где выстрелы, а где разрывы, из чего стреляют и чем. Над городом по большей части рвутся шрапнели — по живой, следовательно, силе. Идут через город, следовательно, наши войска. Осматриваюсь, с помощью оставшихся мелочей пытаюсь думать о той жизни, какой жили люди здесь, в этой мастерской, и там, за перегородкой, за которой я провел ночь. Они что-то накапливали, что-то тащили в дом — и вот всему конец. Здоровенный сундук — крышка поднята, внутри старые валенки, старые драные платья и пиджаки, возможно, что еще царских времен. Все такое пыльное, латаное, заношенное и изношенное. На стенах цветные картинки — вырезки из журналов от старой «Нивы» или «Пробуждения» — разные «дамские прелестные головки» — до «Прожектора» и «Огонька» — с фотографиями строек в лесах, плотни Волховстроя и Днепрогэса, комбайнов и физкультурников на Красной площади.