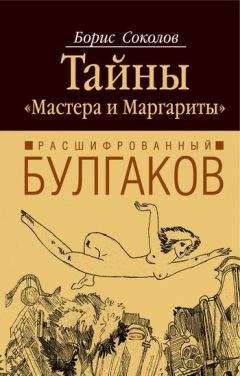Борис Вадимович Соколов - Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты»
Какой странный контраст между внешней жизнью этого человека и его разрушительной, миры сокрушающей мыслью».
В окончательном тексте «Мастера и Маргариты» сходство Мастера с Кантом осталось, но сделалось менее заметным. Здесь Воланд обращался к герою так: «…О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?.. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет». В последнем полете Мастер принимает облик философа XVIII века: «Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал».
В «Мастере и Маргарите», как и в книге Гейне, сомнению подвергается лишь религиозная, а не этическая сторона кантовской философии. Как и в жизни Канта, контраст присутствует в награде, дарованной Мастеру Воландом: внешний покой последнего приюта и напряженная работа творческой мысли, создание новых произведений, полная творческая свобода при невозможности донести плоды своего труда до читателей.
В разговоре с Воландом Левий Матвей насчет судьбы автора романа о Понтии Пилате печально заключает: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Для сатаны, утверждающего, что «наслаждаться голым светом» может только глупец, вроде его собеседника, награда, дарованная Мастеру, безусловно выше традиционного света, данного Фаусту Гёте. В чем Воланд и убеждает Мастера, когда тот, завершив свой роман, отпустил Понтия Пилата навстречу Га-Ноцри:
«– Мне туда, за ним? – спросил беспокойно мастер, тронув поводья.
– Нет, – ответил Воланд, – зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?»
Мастер не может возвратиться и в покинутую им Москву: «Тоже нет, – ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами, – романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. – Тут Воланд повернулся к Маргарите: – Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас, – еще лучше». Дьявол описывает прелести последнего приюта, где Мастер сможет созидать нового гомункула и «писать при свечах гусиным пером». Маргарита завершает мысль Воланда: «Слушай беззвучие, – говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».
Те, кого любит Мастер, – это придуманные им герои. Он получает возможность творить вечно, он освобождается от Понтия Пилата и от памяти о пережитых страданиях, перейдя ручей, символизирующий реку забвения Лету: «Память Мастера, беспокойная, исколотая память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя».
Здесь Булгаков следует мировой традиции, рассматривающей покой как одну из высших человеческих ценностей. Можно вспомнить, например, роман Генрика Сенкевича «Огнем и мечом» (1882), где Адам Кисель, воевода брацлавский и один из лидеров «партии мира» в Польше, безуспешно пытающийся примирить Хмельницкого с королем и подвергающийся несправедливым нападкам в обоих борющихся станах, горестно восклицает: «…Пусть бог судит нас за наши деяния, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры».
У Булгакова рассказчик почти теми же словами описывает последний полет Мастера: «…Кто много страдал перед смертью… без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его». Еще одну важную свою мысль вложил Сенкевич в уста Киселя: «…Раздоры равно гибельны для обеих сторон». В «Мастере и Маргарите» Воланд, демонстрируя Маргарите бедствия войны на своем волшебном глобусе, утверждает, что «результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы». Автор «Огнем и мечом» показывает весь ужас войны в эпилоге, запечатлев резню, устроенную польскими войсками татарам и казакам при Берестечко в 1651 г.: «И настал день гнева, поражения и суда… Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны: непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, в сумятице люди давили друг друга, и сталкивали в воду, и шли ко дну… Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого: казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода брацлавский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи – такая резня, какой не доводилось видеть и старым, бывалым солдатам: при воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились. Когда же наконец тьма окутала землю, сами победители устрашились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Te Deum» (католическая молитва: «Тебя, Бога, славим…». – Б. С.) и не радости слезы, но слезы печали и сострадания катились из благородных королевских очей…
Междоусобные войны… тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки выли на развалинах городов; цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть вросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Пушкинское стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» (1834), подсказавшее Булгакову название 30-й главы «Мастера и Маргариты» – «Пора! Пора!», содержит формулу: «на свете счастья нет, но есть покой и воля», применимую к награде, которую получил Мастер. Он, подобно автору стихотворения, мог бы сказать о себе:
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Такая обитель – последний приют булгаковского героя. Показательно, что именно в 30-й главе Маргарита окончательно решает вверить свою судьбу и судьбу Мастера черту: «Черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит!.. Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку!» Это троекратно повторенная фраза звучит как заклинание. После нее является подручный Воланда Азазелло и с помощью яда обеспечивает Мастеру и Маргарите посмертный покой. Во второй редакции романа в 1934 года двойственность положения героя во время последнего полета особо подчеркивалась – «поэт» (так именовался тогда будущий Мастер) одновременно и мертвый и живой: «Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было, и неуклонно светало. Воланд летел стремя к стремени рядом с поэтом.
– Но скажите мне, – спрашивал поэт, – кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой, из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?
– О, гость дорогой! – своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече (словами арии Кончака из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» (1890). – Б. С.), – о, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно – живой ли, мертвый ли (тут чувствуется интонация булгаковской дневниковой записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 г. по поводу полемики вокруг книги Л. Д. Троцкого «Уроки Октября»: «… публика, конечно, ни уха ни рыла не понимает в этой книге и ей глубоко все равно – Зиновьев ли, Троцкий ли, Иванов ли, Рабинович». – Б. С.)!
– Нет, все же я не понимаю, – говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провел по телу руками, расхохотался.
– О, я глупец! – воскликнул он, – я понимаю! Я выпил яд и перешел в иной мир! – Он обернулся и крикнул Азазелло:
– Ты отравил меня!
Азазелло усмехнулся ему с коня.