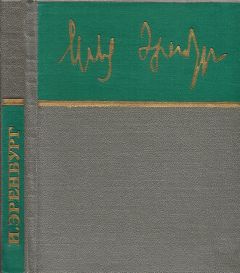Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах
(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий к Индокитае.)
В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «…Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь — зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не. такими, как на самом деле…»
Моя статья была попыткой разобраться к психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; и упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «…Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви… Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время… Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро») Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека». Статья была напечатана в журнале «Знамя»; два члена редакционной коллегии Л. Скорино и А. Макаров меня как-то спросили, почему я все валю на критиков, я им посоветовал перечитать повесть о принце и нищем.
Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?…» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.
Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать, — это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности, — писал Маркс, — я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач — начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.
Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники — секретарей, секретари — машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дни» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.
В сентябре был Пленум ЦК. С докладом о сельском хозяйстве выступил Н. С. Хрущев. Я прочитал и перечитал доклад, он меня поразил. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот Хрущев подверг резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказал о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе корон теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но Хрущев сказал об этом правду. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.
Я сел за «Оттепель»-мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».
Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку — написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять им нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась…» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»… Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?… Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали…» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них редут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что и ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу. «Вера, вот и оттепель…» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.