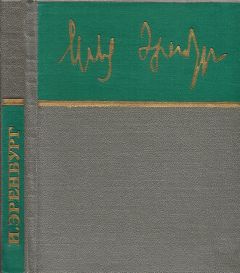Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах
Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я — интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.
Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он — герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра — от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:
Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ
Мертвого будит пера.
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,
Вере не верю я.
Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, — Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, — прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.
Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.
В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.
Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.
Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.
Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!..» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил…
Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлер был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Стадии не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся — не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени — в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома ненцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».
Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил…» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.
Меня упрекали за то, что и будто бы проповедовал «культ молчания», ставили мне в пример Льва Толстого, осудившего в статье, озаглавленной «Не могу молчать», царское правительство, которое вешало революционеров. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.
Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в у мах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе, — если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.
Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даме если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранит зло, но он и не думал о защите царской России, — напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожигой жизни я не мог об этом умолчать.