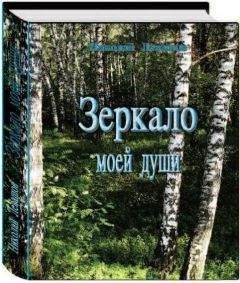Александр Беляев - Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1
Мы, конечно, молча выслушали приговор, но он не произвел на меня большого впечатления, так как я ожидал приговора смертного, а когда в молодости человеку оставляется жизнь вместо смерти, то лучезарная надежда снова посещает сердце и приносит отраду. Все же, думал я, это не каземат, не страшное для молодости одиночество каземата со своими неумолимыми мыслями и представлениями; тут хотя по временам, но будет над головою чудное небо, куда мой взор уже мысленно привык возлетать из глубины каземата; тут будет лучезарное солнце, прекрасные облака; тут будет бездна воздуха, которого недоставало в каземате; тут будут товарищи, с которыми мы будем вместе делить свою участь, которой горечь много усладится чрез это общение; тут будет дружба, сочувствие, приятные умные беседы, может быть, религиозные, которые теперь для меня были самыми отрадными, — словом, после ожидания смерти это было как бы воскресением для меня, молодого, пылкого и всегда поэтически настроенного.
Когда нас вывели из залы, мы снова распрощались друг с другом, потому что нас снова разместили по казематам; но едва только началась заря, снова вывели на какую-то площадь, где должно было совершиться исполнение приговора, а несчастных, осужденных на смерть, повели на гласис, где были устроены виселицы.
Но этого мы не видали, так как нас, моряков, повели на берег, посадили в арестантское закрытое судно и ввели в каюту с двумя маленькими окнами с железными решетками, и мы поплыли в Кронштадт, чтобы исполнение приговора совершилось на флагманском корабле. Еще прежде нежели нас заключили в эту плавучую тюрьму, к нам на площади подошел Дивов, бросился нам на шею и со слезами на глазах сказал:
— Братья Беляевы, простите ли вы мне, ведь это я погубил вас всех!
— Не будем вспоминать того, что было, — сказали мы, — и останемся друзьями, какими мы были.
На корабле адмирал Кроун, у которого мы служили прошлый год на том самом флагманском корабле "Сысой Великий" и который был очень расположен к нам, увидев нас, судорожно сложил свои руки, подняв глаза к небу, а потом прочел приговор. Затем над каждым из нас были сломаны наши сабли, сняты наши сюртуки и потоплены в море, как мундиры сухопутно-военных товарищей были преданы огню, так что мы могли сказать, что прошли огонь и воду. На нас надели матросские буршлатики и, посадив в ту же арестантскую лодку, повезли обратно в крепость. На набережной судно зачем-то остановилось и тотчас собралась несметная толпа, в которой многие узнали своих родных и знакомых, но это только издали, так как лодка стояла посередине Невы. В казематы мы вошли ночью и улеглись спать. На другой день по голосу мы с братом узнали, что казематы наши были один против другого, а это давало нам возможность разговаривать откровенно, но, конечно, больше по-французски, так как могли быть подслушивающие, и вот что значит молодость и легкомыслие! Мы с братом хохотали до слез, над чем бы вы думали? Над тем, что мы теперь были sans fason, что в учебных разговорах переводилось словом "без чинов".
После исполнения приговора нам уже не давали казенного чаю, так как мы поступили на положение, вероятно, каторжных. Но вдруг однажды мне и брату приносят большую корзинку с сахаром, правильными кубиками наколотым или распиленным; несколько фунтов чаю и целую корзину сахарных сухарей и булочек; все это до самого нашего отправления в Сибирь присылала нам аккуратно незабвенная княгиня Варвара Сергеевна Долгорукая, тогда уже возвратившаяся из-за границы. Однажды даже, как нам передал плац-адъютант, она приезжала в крепость, чтоб видеться с нами, так как после сентенции родным дозволялись свидания при плац-майоре и коменданте; но ей комендант отказал в свидании, как не бывшей нам родной, хотя она по чувствам была такой родной, с какой немногие из кровных могут сравниться. Перед отъездом в Сибирь от нее же привозил мне 200 рублей наш добрый пастырь и друг заключенных, покойный отец Петр, казанский протоиерей, но я не решился принять денег, полагая, что при отправке нас станут обыскивать и будет спрошено, кто передал мне деньги. Он отдал их плац-майору, который передал фельдъегерю на наши дорожные расходы.
После сентенции, когда мы опять были заперты в каземате, вдруг отворяется моя дверь и входит отец Петр с чашей Божественных Тайн, Тела и Крови Господней.
Я пал ниц пред этой дивной чашей нашего Спасителя. Он исповедал меня, дал именем Господа разрешение моих грехов и заблуждений и приобщил Святых Тайн. О, с каким чувством повергся я во прах перед этой божественной чашей! С какой любовью, с какой благодарностью я принял эти чудные дары неизреченного милосердия, этот залог отпущения грехов и умиротворения совести; после чего и действительно сердце исполнилось невозмутимого покоя.
Между дорожными вещами, нам присланными, были также ваточные шелковые нагрудники, на которых я увидел что-то написанное чернилами. Написано было: "Александру Петровичу Оленька сшила". Эти простые слова тронули меня до глубины сердца. Оленька эта была горничной девушкой у моих сестер, когда они жили у княгини.
После сентенции думали, что нас сейчас отправят по назначению, однако ж мы долго оставались в казематах; но теперь против меня был брат, а возле полковник, теперь без чинов, Аврамов, бывший командир Казанского полка, прекрасной души человек, который иначе не обращался к нам с братом, как со словами: mes infants (мои дети (фр.)). Это уже были дни отрады. Мы были очень веселы и часто сообщали друг другу довольно смешные идеи и беззаботно смеялись. В это время нас снабжали столом даже лучшим прежнего, на деньги, присылаемые извне. В это время, после пятимесячного воздержания, принесли и мне трубку и табак, чего я был лишен в течение 5 месяцев. Часто приносили нам книги. Мы прочли многие романы Вальтера Скотта и Купера по-французски. От души смеялись над проделками Жильблаза, которого герои были нарисованы одним из товарищей в этой куртине измайловским офицером Гандебловым, с которым бы были знакомы еще прежде.
В 12 часов 31 декабря 1826 года куранты проиграли свои обычные заунывные трели, а когда колокол пробил 12, раздался голос Аврамова, поздравлявший нас с Новым годом. Отворилась дверь и — о чудо! Передо мною стоял сторож с кривою полузеленою рюмкой шампанского! Я уже упоминал, что после сентенции родственники платили за наше содержание и присылали все нужное; конечно, к этому дню было прислано и шампанское.
Но эти отрадные дни заключения продолжались недолго. Однажды как-то комендант вздумал пройти по коридорам, не заходя в казематы. Вероятно, он ходил, и часто, так как иногда слух уловлял какое-то таинственное шествие по коридору, какой-то шепот, но в этот раз мы ничего не знали об этом посещении и, на беду, что-то говорили с братом; ночью является ко мне крепостной офицер, бывший помощником плац-адъютанта, объявляет, что меня велено перевести в другую куртину, и вот мы снова разлучены и, может быть, навеки! Крепко сжалось сердце, но делать было нечего, как следовать с ним вместе по дворам и переходам и войти в другую клетку, где уже исчезала наша молодая беззаботная радость. Тут я уже просидел до самого отъезда в Сибирь.
Этот последний каземат был скучнее прежних. Тут не было бульвара, как в Невской куртине, и вообще разлука с братом производила очень грустное настроение. Хотя участь наша была решена, значит, мучительная неизвестность исчезла, хотя нам давали книги и между романами, помню, была принесена огромная книга: "Путешествие к святым местам" Григоровича-Барского, которая доставила мне много наслаждений, но все же каземат давал себя чувствовать. Одиночное заключение действительно ужасно.
Из собственного моего опыта я убедился, что одиночное заключение страшнее смертной казни, окружающей каким-то ореолом даже безумного коммуниста в глазах толпы…
В этом каземате я однажды услышал голос, басом пропевший: "Je suis le capitaine de dragons" ("Я драгунский капитан" (фр.)), из чего я заключил, что это был А.И. Якубович, но я не отвечал ему, опасаясь нового перемещения, еще худшего. От сторожа я только знал, что сидел в этой куртине, кроме Якубовича, офицер Измайловского полка, кажется, Лапа, Вадковский, других не припомню.
Образ жизни моей в этом последнем каземате не изменился. Та же копоть из лампадки с фонарным маслом, оставлявшим следы в носу и легких, те же страшные количеством блохи. Те же два часа ходьбы по каземату, обед, отдых и чтение до ночи. Но все же тут было легче сравнительно с заключением до решения нашей участи, так как меня поддерживала уверенность скорого отправления, и действительно, я тут просидел только январь месяц 1827 года.
Глава XI. Отъезд в Сибирь
1 февраля 1827 года около 9 часов вечера в последний раз загремели мои дверные затворы и появился плац-адъютант Трусов, объявивший мне о нашем отправлении в Сибирь. С чувством я простился с ним, выразив ему свою искреннюю благодарность за все доброе участие, какое он во все время заключения оказывал мне. Надев шубу и теплые сапоги, я последовал за ним в дом коменданта, где уже были Нарышкин, А.И. Одоевский и мой брат. Чрез несколько минут по лестнице застучала та же деревяшка, которая при начале заключения произвела на нас такое неприятное впечатление перспективой пытки, и тот же комендант Сукин произнес: "Я имею Высочайшее повеление, заковав вас в цепи, отправить по назначению". При этом он дал знак, по которому появились сторожа с оковами; нас посадили, заковали ноги и дали веревочку в руки для их поддерживания. Оковы были не очень тяжелы, но оказались не совсем удобными для движения. С грохотом мы двинулись за фельдъегерем, которому нас передали. У крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, один из наших спутников, Одоевский, написал потом свою думу, озаглавленную "Бал мертвецов".