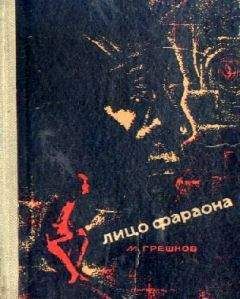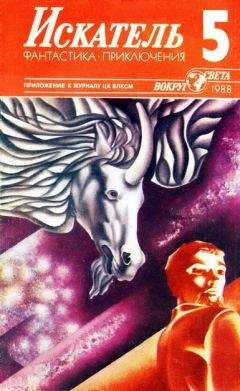Владимир Варшавский - Незамеченное поколение
Чем объяснить, что «молодые» оказались в таких условиях? Ведь в те годы Париж был в большей степени культурной столицей России, чем Петербург или Москва. Здесь жили лучшие русские писатели, артисты; и ученые, здесь еще продолжался русский культурный ренессанс начала века. Со своими журналами, газетами, политическими партиями, землячествами, союзами, театрами, университетами и гимназиями Зарубежная Россия являлась тогда своего рода государством в государстве. В этой беженской экстерриториальной России старшие писатели находили и моральную и материальную поддержку. Но для молодых не делалось ничего.
Покойный Борис Поплавский рассказывал мне почти с восхищением, что его родной отец, очень его любивший, совсем не знал его стихов, никогда ни одной строчки не прочел. Вот пример отношения эмиграции к своим молодым писателям. Причина была, верно, в том, что молодые не могли и не хотели писать так, как тогда требовалось.
Превращение на чужбине в чернорабочих и шоферов такси вызвало у многих эмигрантов своего рода раздвоение личности. Лучшая часть их «я» не участвовала в жизни тех стран, куда они попали по кабальным рабочим контрактам. Здесь не понимали их языка, ничего не хотели знать о всех перенесенных ими испытаниях, видели в них только чернорабочих, варваров, «грязных метеков». Но в своем собственном представлении они продолжали оставаться русскими офицерами, чиновниками, интеллигентами, и положение, в котором они очутились, казалось им каким-то непонятным недоразумением, отвратительным, неестественным и тягостным, но, слава Богу, временным, не заслуживающим внимания. Все их помыслы были обращены не к сегодняшней «ненастоящей» жизни, а к будущему — «когда мы в Россию вернемся», и к прошлому, недоступному вторжениям враждебной и равнодушной чужбины, как светлый нетленный Китеж, за стенами которого «я» эмигранта опять обретало свое значение и достоинство. И чем горше была беженская доля, тем ярче воскресали в памяти видения отчего дома, детства, юности, всей славы и счастья прежней жизни на родине. Эти воспоминания позволяли измученным, все потерявшим людям забывать тоску эмигрантщины и сердцем жить в соединении со всем тем святым, великим, добрым, прекрасным и вечным, чем была в их сознании Россия. Понятно, что и книги им нужны были главным образом такие, в которых бы рассказывалось о потерянном рае русской жизни до революции. Степень художественности литературного произведения не имела при этом решающего значения. В то время встречались люди искренне ставившие П. Н. Краснова выше Льва Толстого. Краснов, — говорили они, — восславил непонятые Толстым величие и правду царской России и был не случайный военный, а генерал, и поэтому лучше изобразил войну.
Молодые таких книг писать не могли — старого русского быта они не знали. Только от старших они слышали рассказы о прежней, вечной, воображаемой, разрушенной революцией родимой Трое, гибель которой они видели детьми. В этом отличие их эмигрантского опыта от опыта отцов. Они не участвовали в круговой поруке священных общеэмигрантских воспоминаний.
Борис Поплавский говорил:
«Новая эмигрантская литература, та, что сложилась в изгнании, честно сознается, что ничего иного не знает и что ее лучшие годы, годы наиболее интенсивного отзвука на окружающее, проходят здесь в Париже. Не Россия и не Франция, а Париж (или Прага, Ревель и т. д.) ее родина, с какой-то только отдаленной проекцией на русскую бесконечность».
Подобное заявление не могло быть по душе людям, только в сознании своей принадлежности к прежней великой России находившим опору для утверждения достоинства, смысла и подлинности своей жизни. Левые же эмигрантские «отцы» смотрели на молодых писателей и поэтов, как когда-то Золя на символистов: символисты-де хотели «противопоставить позитивистской работе целого столетия туманный лепет, вздорные стихи на двугривенный — произведения кучки трактирных завсегдатаев». Вечные шестидесятники узнавали в поэзии монпарнасских «огарочников» все отвратительные им черты декадентства: мистицизм, манерность, аморализм, антисоциальность, отсутствие здорового реализма и т. д. В эмигрантском обиходе молодые поэты и писатели пришлись не ко двору. Зато, быть может, им дано было участвовать в окружающей иностранной жизни? Но не было и этого.
«Среди великого народа, чрезвычайно деятельного и более занятого своими собственными делами, чем интересующегося чужими, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в самой далекой пустыне», — писал Декарт о днях, проведенных им в Амстердаме. Эти слова каждый из «эмигрантских сыновей» мог бы повторить о себе в Париже. У них не было и тени способности к социальной мимикрии, развившейся у последующих поколений, когда на «Бульмише» начали появляться юные эмигрантские алкивиады, в невероятных галстуках, и говорившие как-то даже более по-французски, чем настоящие французы, — и их одиночество было больше одиночества «отцов»: у тех, мы видели, еще оставалась твердая почва под ногами: воспоминания, землячества, эмигрантская «общественность», а «сыновья» находились в неслыханной социальной пустоте, нигде, ни в каком обществе.
Князь Д. Святополк-Мирский писал, что Борис Поплавский было поэт скорее парижский, чем русский. На первый взгляд это определение кажется очень верным. В Поплавском явно чувствовалась какая-то родственная близость к парижским «poötes maudits». Его стихи, посвященные Рэмбо, написаны словно по личным воспоминаниям:
Был полон Лондон
Толпой шутов,
И ехать в Конго
Рэмбо готов.
Средь сальных фраков
И кутерьмы
У блюда раков
Сидели мы.
Блестит колено
Его штанов,
А у Верлэна
Был красный нос.
Поплавского и вправду легко себе представить сидящим в кафе за одним столиком с Рэмбо и Верленом. Они бы приняли его, как своего. Так, может быть, и будет в раю. Но ни с одним современным французским литератором Поплавский не был знаком, вообще не имел никаких французских знакомых, не был вхож ни в какой французский круг. Он был, прежде всего, поэт эмигрантский, не парижский, а русско-монпарнасский. Когда он говорит: «не Россия, и не Франция, а Париж», нужно помнить, что его Париж — это Монпарнасс, «где человек другой, чем повсюду, породы… вырванный из земли, как мандрагора».
Первая напечатанная глава из романа Поплавского «Аполлон Безобразов» была о Монпарнассе:
«Как всегда, какие-то неповторимо прекрасные сумерки лиловели за стеклами и какой-то бессмертный закат, одно описание которого заслуживает целой книги, изнемогал на небе, как близящийся к концу фейерверк, как весна, сгорающая в лето, как то невозвратное время, которое, казалось, не могло уже и продлиться более часа, но все еще длилось и лилось и ширилось, легко унося с собою нашу жизнь… Помню, сидел я тогда в «Ротонде».
Поплавскому легко было это помнить, так как он сидел в «Ротонде» каждый вечер и в Париже не было никакого другого места, куда бы он мог пойти.
На Монпарнассе художники-иностранцы, даже самые нищие, даже самого чудаковатого вида, имели свое определенное место. Здесь на них не смотрели с тем инстинктивным недоброжелательством, с каким обычно смотрят на чужих и чудаков. Наоборот, им покровительствовали: достопримечательность, привлекают туристов. Даже полиция их не трогала.
Эта вольность «монпарно» распространялась и на русских художников. Звание художника делало их полноправными гражданами Монпарнасса, Парижа, человечества. Но собиравшиеся в тех же кафе молодые эмигрантские писатели и поэты такого гражданства не имели. Даже тут, в монпарнасской гостеприимной мешанине «племен, наречий, состояний», даже у стоек ночных баров, этого последнего пристанища всех спившихся неудачников, погибших гениев, и всякого рода проходимцев, сутенеров и проигравшихся картежников, они выделялись своей странностью — не отнесешь ни к какому установленному разряду людей.
«Студент… Нет, Олег провалился на первом же экзамене, о позор, на сочинении о Гоголе… Писатель… Да, в мечтах, в дневниках… Никто… Никого… Ничто… Никакого народа… Никакого социального происхождения… Политической партии, вероисповедания…» — Так в романе «Долой с небес» под именем Олега описывает Поплавский самого себя. О многих монпарнасских поэтах и героях все это можно повторить. Социально это были какие-то тени, «живые трупы». Их столик всегда казался отделенным от всех остальных невидимой чертой. Обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние.
Я не участвую, не существую в мире,
Живу в кафе, как пьяницы живут.
Поплавский, действительно, жил на Монпарнассе. Ему все казалось, что здесь, когда уже не останется в эмиграции никаких журналов и собраний, «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова».